СТРАНЫ ЗАБВЕНИЯ - поэтизированная проза
Разные дает судьба людям на Земле воспоминания.
Ну, а после, после этой жизни, после Земли?
Если на том свете спросят: «А что ты вспомнишь о своей жизни?» — конечно, сразу вспомнятся железная дорога, холодный зимний вагон с замерзшими стеклами, редкие захолустные станции, слабо освещенные огоньками. А потом, в самую глухую ночь, узловая – со множеством разноцветных, синих, красных, желтых и зеленых огоньков на путях, огнями электровозов, вьюгой, черными спинами пассажиров, бегущих с поезда и спешащих к кассам. Ты же никуда не спешишь, зная, что пригородного ждать еще до утра.
Неисчислимые зеленые, синие вагоны, цистерны с бензином, контейнеры с самым разным богатством наших олигархов и сверхбогачей, на всех путях…
Наверное, вспомнятся и летние железнодорожные тихие вокзалы забытых малых станций России. За ними – все глухая пыльная полынь, березки, кусты, старые древние чугунные урны, разбитый асфальт. Старые серые скамейки, с треснувшими досками. Древние серые чугунные урны, поваленные набок. Расписание поездов в зале ожидания, где на месте многих – прочерки или «отменен». Серый элеватор вдалеке. Ветер с дальних лесов морщит лужи после недавнего дождя. Тоска, тишина, забвение.
Мелкие провинциальные магазины, обитые розовым или белым пластиком, где в редкие дни, когда бывали хоть какие-то деньги, можно было что-то купить на дорогу, недорогое, конечно…
Вспомнится эта деревянная станция, крашенная зеленой масляной краской по доскам, в ранний погожий и яркий сентябрь года. Года ничем не приметного, который в провинции, как и всякий год, канул в безвестность и несуществование – точно такой же, ничем и не запомнившийся здесь никому, как и прошлый, позапрошлый…
До поезда целых четыре часа, потому сначала обычно отдыхаешь от тряского автобуса на скамейке за станцией. Смотришь, как маневровый, свистя, толкает взад и вперед товарные синие и коричневые мятые с облупившиеся краской вагоны, черные бочки с потеками мазута, платформы. По асфальту, в длинных трещинах и ямках от женских шпилек, выбитому тысячами ног, прыгает несколько голубей – все клюющих, все что-то клюющих там и сям.
Бедность. Глушь. Никому не нужная глубинка.
Сразу за зданием вокзала – шоссе, где на дорогих легковушках, лаково посверкивающих бликами, важно свистят мимо довольные собой и жизнью сытые – и тут же часто дребезжащая рухлядь на колесах, бедных селян. Изредка прогремит яркая оранжево-черная бочка огромной бетономешалки или же — несусветная жуткая длинная фура-динозавр откуда-то из Москвы с английскими оранжевыми буквами по тенту. Где везут недоступное всем здешним селам какое-то богатство – не сюда, в эту ужасающую нищету и разруху, а в дальние большие города.
Сразу за шоссе с его летящим мимо богатством мира – весь пропыленный, бедный райцентр.
Несколько старых двухэтажных панельных и кирпичных домов, с осыпавшимися цоколями, ржавыми крышами, оборванными дверями подьездов. Во дворах этих, как всегда — огромные лужи, вытоптанная глина, сломанные кривые качели, белье на веревках, несколько кричащих детей возле трехколесного велосипеда, две-три вечно занятые и деловитые собаки, куда-то бегущие, все спешащие.
Сбоку — черные от времени и непогод деревянные сарайчики и поленницы.
В цветниках возле станции – два-три пыльных пиона в полыни, в осыпающихся ромашках, в пыльных подорожниках. Гнутые железные оградки из арматуры косят влево и вправо, давно не крашеные. Недалеко неглубокий пруд, похожий на огромную лужу – несколько мужиков черпают у берегов в иле мотыля на зиму. Старая ржавая водокачка – пятнистая, как зебра. Водяная колонка, где набирают воду в эмалированное ведро.
И надо всем горит яркое, какое-то золотое спокойное и несуетное русское небо с розовым облачком, похожим на лохматого старика.
Слабый ветерок шуршит фантиками от конфет, обертками от шоколада, раздавленными окурками, упаковками чипсов у скамейки. Шевелит старую байковую юбку старухи в галошах. Она крепко держит видавшую виды сумку, смотрит на всех исподлобья, готовая в каждом проходящем видеть вора.
Все что-то недовольно бормочащая себе под нос.
Это – летом, в солнце, в сухую погоду…
А в зимы, когда серые низкие облака прямо-таки давят пасмурные леса и поля, в слякоть, вид этого райцентра совсем ужасен: все серое, недовольное, выцветшее, тусклое. Парят вонью полуоткрытые люки колодцев, нахохленные деревья топорщатся – похожие на сваренные из гнутого металла кляксы, черные, мокрые. На дорогах тоскливо блестит густая грязная жижа из глины и снега, черной воды, так что и не знаешь, куда и ступить. В глубоких ямах дороги и дворов запросто начерпать воды в ботинки – и если это случится, обсушиться в дороге будет негде.
В здании вокзала – промозглый холод от чуть теплых пыльных батарей, а новые железные скамьи совершенно неприспособлены для долгого ожидания, маленькие, жесткие, кажутся настоящей пыткой.Из больших окон зала ожидания всегда дует сыростью оттепели. Те, у кого есть деньги, приезжие, сразу уходят в бар, погреться, поесть. Местные досадно отворачиваются.
Холод. Пустота. Медленное серое время.
Поэтому так хорошо вечером в полную темень, при редких желтых фонарях захолустья, вдруг увидеть далекие глаза электровоза. Потом, забравшись в теплый вонючий вагон, можно растянуться и дремать на жестких лежанках до станции, пока проводница в синем форменном пальто не пройдет и не разбудит спящих.
Теперь на железных дорогах нет общих вагонов, дешевых, а ведь еще совсем недавно они были. И сколько же нас, бедных россиян, в них ездило, хоть что-то экономя для без того скудного стола провинции!
В общем вагоне ночью, как и всегда: храп, вонь мокрых носков спящих, покачивание напитка в пластиковых бутылках на столиках, редкое мелькание фонарей в черноте ночи за стеклами вагона.
В двух-трех купе – разговоры, игра в карты, пиво или обсуждение того, как «Степанюк опять урезал премию»…
В тамбуре не продохнуть от дыма, там, как и всегда, какая-нибудь тощая и длинная девица затягивает длинную сигарету, в дорогом сером свитере, в блестящих черных брючках, смотря в стену, опершись одной ногой в стену сзади себя – как кузнечик на высоких каблуках.
Морозно, сквозняки от дверей, потому, лежа в купе, не хочется даже и вставать. Жесткие лежанки годятся для сна только сильно уставшим людям – или очень пьяным. Вдобавок, последний общий вагон сильно мотает, поэтому приходиться за что-то держаться, если лечь, чтобы не упасть.
«Наш железнодорожный министр на таких лежаках не ездит,- крятя и поворачиваясь, замечает мужик, устраиваясь поудобнее, укрываясь полушубком. – Он, вишь, на самолете только летает».
Не оттого ли так много лет, везде и всюду, во всех уголках, так мучается народ России, давным-давно привыкший к этим «неудобствам» – а, точнее, к наплеваательскому к нему отношению ото всех «богатых и успешных»?
На купейные вагоны у провинции нет денег и, вернее всего, никогда не будет.
После таких ужасных неустроенных путей России, все куда-то едущей, все спешащей и едущей, раем покажется любой захолустный повалившийся набок домишко. Любой.
Где, куда ни зайди, старая клеенка на кухонном столике, косящие стены, старые растрескавшиеся рамы окон, кривые полы, крашеные коричневым суриком, дохлый бранчливый обшарпанный холодильник на кухоньках, таких маленьких, что даже не ясно, как тут обедает вся семья. И – мелькающие в окне зеркальные «Форды» или «Тойоты» денежных русских, разбрызгивающие на редких нахохленных прохожих грязные лужи и снег дорог.
А радио из Москвы весело кудахчет и вопит о самом богатом миллиардере Билле Гейце, о всех этих нерусских миллиардерах дерипасках, вексельбергах, абрамовичах, о их яхтах и должностях, о остальных богатых и успешных в этом холодном, неуютном, прозябшем, грязном и мокром русском убогом мире.
Полуслепой кот на подоконнике совсем не слышит воплей радио – и дремлет, так же, как и хозяйка с хозяином- пьют они на кухне такой жидкий желтый чай, что даже совестно называть это питье чаем.
Еще в окно видно, как идет, пьет пиво и весело кричит в мобильники молодежь.
— И какой с них толк в жизни? – выглядывая на проходящих, спрашивает сам себя старик-хозяин.
— Это телевизер их такими воспитал, — замечает старуха, откусывая жесткое печенье…
Изредка на дорогах попадаешь к дальнобойщикам. Тяжелая фура ощутимо водит влево и вправо грузовик, толкает и толкает его в спину – и жидкий снег, перемешанный с водой, шуршит и шуршит во все стороны. Все мокрое: и дорога, и опоры ЛЭП, и встречные автомобили, и зеленые и синие магазинчики, и грязное желтоватое небо в глиняных облаках, нахохленные вороны, поджавшие хвост собаки, старый битый шифер таких нищих деревушек, утопших в воде и снеге почти по черные крыши, в стороне от трассы, что даже совестно – кто вообще живет в такой сгнившей стране?
А в городе, у вокзала, — толкотня таксистов, холеные лощеные выбритые рожи руководителей под их всегда новыми, как будто только из магазина, меховыми кепи, рыже-серо-зеленые курточки-раздергайки селян, давно потерявшие от времени и цвет, и форму, меховые платки старух, шаркающих по мрамору вокзала от киоска к киоску.
Молодежь – парами, веселая, обнимающаяся, целующаяся, все говорящая и говорящая по пиликающим мобильникам, ничего не замечающая вокруг в своей бесшабашности: ни серых помятых и грустных лиц мужиков и баб с деревень, ни бомжа, собирающего бутылки в истрепанных «Прощай молодость», ни мусора, который шевелит ветер у лестниц снаружи…
Седой лохматый бомж в вязаной черной шапочке и рваных вязаных же перчатках похож на унылых вокзальных собак – смотрит так же преданно и заискивающе, если кто-то заговорит вдруг с ним. Но обращающих на него какое-то внимание — мало, большинство, брезгливо морщась, отворачивается…
— Христиане! – глядя на это, вздыхает тощий молодой священник в стареньком плащике.
И тут же – шлейф духов москвички в такой богатой шубке, в сапогах на таком высоком и тонком каблуке, что удивительно, как они вообще не ломаются на трещинах и выбоинах тротуаров!
Наш пригородный поезд, весь затертый, древний и обшарпанный, с деревянными еще скамьями, пахнет пивом, мочой, пылью, сама нищета – начальство на таких поездах также никогда не ездит.
И опять – за немытыми желтоватыми стеклами качается серое марево провинции с редкими, умирающими огнями поселочков, полустанков с ржавыми вагонами. Вьются и вьются, уходя назад и назад, леса, опустелые от осенних ветров, утонувшие в лужах, грязи, ржавчине прошлогоднего листа, голыми прозябшими веточками шевелящие вслед поезду.
Сырой ветер шлепает по стеклам дождем и снегом.
В вагоне натужно кашляют, едят батоны и яйца, читают толстые московские желтые газеты, где и читать, в сущности, нечего: московская и заграничная освещенная солнцем и пипютрами сытая жизнь на московских «дачах» артистов и поп-звезд.
Ночь. Дрема.
Снег и дождь стрекочет в стекла с черной-черной глубиной. И редко, редко – вдруг мелькнет какая-то нефтебаза, ярко освещенная оранжевыми прожекторами. И опять тьма, ночь, ветер, смутные очертания елей и сосен у полотна.
А дальше, за Соликамском, начинаются уже такие глухомани, сплошные угрюмые болотистые темные урманы Севера, куда никакие телевизионщики и гламурные фотографы из Москвы никогда и не заглянут: болота, трясины, озерца, разобранные узкоколейки, где насыпи уже сплошь забило молодыми елочками и елями.
Давно забытые миром слепые деревушки, куда с самого 1930 года кроме «лампочки Ильича» никто ничего не проводил.
Там, в еловых тайгах, забитые тонкими порослями ивы и осины, ржавеют и рассыпаются в прах возле древних еловых сгнивших лежневок увязшие в трясинах, брошенные еще в 70-х лесовозы и тракторы, ржавые бочки. Колючая проволока бесконечных «зон» уже пылит от времени на ветру, забитая вьюнком, иван-чаем и остролистом.
Там возрождается древнейшая безлюдная дикая северная глушь со своими стаями непуганых тетеревов и глухарей, шорохами проворных и любопытных серых белок, внимательно следящих за прохожим с ветвей, сыплющих на тропку шишки. Веселая яркая сойка смотрит совершенно безбоязненно, перпархивая с ветки на ветку, сама разглядывая невидаль – живого человека.
Там — вновь не потревожено растут грибы и лесная малина, ежевика, в речушках спокойно плескает рыба – но никаких дорог туда уже нет. Забвение, тишь, спокойное мерцание фиолетовой воды озерец в багровом пламени закатов, мерное покачивание осоки над серебром вод, и совсем не диво встретить спокойного лося, высоко переставляющего ноги в молодом пахучем ельнике – там, где рубили некогда лес.
Глухие лесные речки городят бобры, на сизых омшелых бревнах отдыхают хохлатые дятлы, целые ночи звенят ансамбли самых разнообразных птиц, и долго-долго не гаснет желтое мертвенное широко разливающееся по горизонтам зарево заката. На вырубленных пустошах уже шумит молодой лес, по песку там и сям деловито спешат серые ежи, ловко подныривая под седые ото мха пни и ветки.
Иногда кажется, что только там теперь можно жить настоящей русской жизнью на Земле – но уже ни единой деревеньки не курит в этих местах дымком из труб.
Только кое-где в этих тайгах наткнешься на позабытое сельское кладбище с ржавыми железными пирамидками и такими же ржавыми звездами и крестами, где уже не разобрать надписей.
Поля, зарастающие лесом, а ведь здесь некогда сеяли гречиху, овес, лен, картофель! Там, где стояли десятки деревень – березы, ольховник, молодые елочки. Только пруды, забитые осокой и ряской, теперь и напоминают об этих деревнях и давно умерших настоящих несуетных русских людях.
В последней глухой деревушке на севере как-то удалось пожить, удаленным от «мира сего».
Черная избенка на три оконца с повалившимся штакетником палисада умостилась у самого лога, забитого диким хмелем, ивой, иван-чаем, крапивой, где вытекает чистейший родничок.
Ночами несколько десятков домов деревушки молчали так же, как молчал в великом Млечном пути разноцветный просыпанный бисер мокрых звезд.
Даже разбитая, никогда не ремонтируемая дорога в деревушку уже вся поросла по обочинам молодым лесом – и можно было, не уходя далеко в чащу, не спеша насобирать здесь грибов или ягод.
Володька, мой сосед, человек начитанный, почти не пьющий, сидя на бревне с колуном возле горы дров, говорит:
— Большинство москвичей думают, что корове, кроме сена, ничего не нужно… Накосил, и весь год лежи себе на койке! Вот ведь! Иногда слышу, мечтают: вот, поеду себе в деревню, заведу корову, буду пить молоко. Это они только говорят так. Так же точно думают и все наши власти. В эмпиреях, на красных дорожках своих офисов…И если бы не эта всеобщая тупость и маниловщина, наша страна давно бы разбогатела и прирастала сельским хозяйством! А то только они и получают в стране нормальные деньги. Чистоплюи!- он замолкает, думая о чем-то своем, глубоком.- Америка хвалится на весь мир своим сельским хозяйством, коровами, фермами, лошадями, плантациями клубники, садами, а они — новой подводной лодкой! А ведь наша страна двадцать лет ничего не производит, кроме легковушек для этих холеных городских задниц! Ни станков, ни самосвалов, ни асфальтоукладчиков! Ни одного нового города на карте страны не появилось, как при коммунистах, зато, смотри-ка, уже целых пол-России уехало в Москву на заработки. В провинции-то на наши копеечные зарплаты с голоду опухнешь! А Москва все руководит и руководит, все выбирает и выбирает — новые власти! Посмотришь на них, они все живут, в Москве-то своей, как будто на Венере! И ничего-то они не знают и не понимают! Зато сколько же десятков миллионов ходят у нас на работе в чистых костюмах или в чулках и короткой юбке! Работнички! А что они производят для нас, России, своими руками?.. Зато никто не ходит за коровами, никто не хочет ползать в навозе в резиновых сапогах! Или глотать пыль в жару на комбайне. Дураков теперь нет! Программа «Развитие села»! А на селе, кроме слепых старух, никого уже и не осталось!
Володька поднимается, берет топор:
— Вот если все эти министерства по стране, Госдуму, всех чиновников-болтунов, всех этих фифочек в чулочках с зеркальцами, всех этих беломанжетников расселить по глухим деревням где-нибудь тут или там в Вологодской области! Какая бы России и всему народу была польза! Несколько обезлюдевших областей сразу бы поднялось, если бы они, как все тут, стали пахать на ферме и получать по десять тыщ в месяц! Но эти чистоплюи никогда не поступятся своими никому не нужными дипломами и должностями. Их оттуда даже атомной бомбой теперь не выцарпать! Так и будут они смотреть в зеркальца и мотаться по городам в своих бархатных сиденьях на иномарках. Мертвые души!.. Так что мы тут по глубинкам будем и дальше загнивать, разваливаться и ржаветь, на радость всем врагам. И ничего-то тут не изменится!…
Расколов дрова, заходим в избу Володьки. Жена красными, распаренными руками стирает белье вручную в старой жестяной лохани возле печки. Таскаем ведрами воду с родника, пока она споласкивает. За это время Володька успевает насыпать курам, покормить пса, полить огурцы.
Сегодня в семье праздник – СПК выделил им целый мешок муки. «Жаль только, что растительного масла только одна бутылка осталась!» — сетует его жена, закладывая дрова в печь и собираясь печь хлеб. Дети смотрят из-за стола, сося палец, вытирая носы кулачком, разглядывая с интересом нового человека.
Старший держит древнего резинового медвежонка с облупившейся краской. Кошка принесла в избу крысу, гордо посматривает с порога – и начинается переполох. Советский механический будильник все еще бежит и убаюкивающее тикает на изрезанной клеенке…
Во дворе над полуржавым «Москвичом» возятся, трепещут, устраиваются спать скворцы в скворечнике, и уже под большой красной луной где-то далеко-далеко в осоке у леса начинает ухать и стонать выпь.
Разбитая лесная дорога до райцентра, среди молодых сосенок и березок, где пахнет грибами и спиртовым духом от старых пней и гниющих стволов.
Полустанок, поваленные в крапиву кирпичные строения, платформа, также разбитая временем, кривая. Тишина, забвение. Сырой ветер из лесов. Бледный полусвет.
И вечером: качанье вагона, фуфайки и куртки, смотрящие из-под насыпи на вереницы ярких контейнеров. Старушка с козой на веревке, в резиновых галошах, в сером платке, в вытертой кожаной куртчонке. Мужики у трактора с прицепом, в резиновых сапогах, стоящие на переезде в желтой глине. Серые, промокшие хрущобы окраин поселков с черными деревянными сараями, косыми заборами, помойными кучами – все напоминает разруху 1945 года! Как будто только-только прошла война!
Забитые полынью недостроенные цеха какой-то фабрики, трубы теплотрасс, машущие на ветру и дожде рваными полотнищами, угрюмые бетонные заборы, исчерканные глупейшими надписями. Гнилые черные городские речушки с непременно лежащей на берегу старой шиной, с ржавыми консервными банками и мятыми пластиковыми бутылками.
Окраины захолустья – свалки, свалки, свалки и раздуваемый ветром на километры мусор. Черные покосившиеся бараки, ржавые водокачки. Хмурый угрюмый осенний полусвет, равнодушное, подавляющее всякое чувство низкое северное серое небо. Рыбьи стеклянные глаза ведущих на телеэкранах в залах ожидания больших станций, пошлейшая и обезьянья трескотня и ужимки ведущих радиостанций – и еще более пошлейшие и бессмысленные песенки безо всякого мотива.
А вдалеке ото всего этого – молчание мокрых предзимних голых лесов за окнами, то укутанных в туманы, то уже повитых лоскутами раннего снега, то искрящихся после дождей на ярком предзакатном солнце, в полоске чистого неба у горизонта по холмам. С тысячами маленьких солнц в лужах на прозябших лесных дорогах, где никто уже не ездит.
Ну, а после, после этой жизни, после Земли?
Если на том свете спросят: «А что ты вспомнишь о своей жизни?» — конечно, сразу вспомнятся железная дорога, холодный зимний вагон с замерзшими стеклами, редкие захолустные станции, слабо освещенные огоньками. А потом, в самую глухую ночь, узловая – со множеством разноцветных, синих, красных, желтых и зеленых огоньков на путях, огнями электровозов, вьюгой, черными спинами пассажиров, бегущих с поезда и спешащих к кассам. Ты же никуда не спешишь, зная, что пригородного ждать еще до утра.
Неисчислимые зеленые, синие вагоны, цистерны с бензином, контейнеры с самым разным богатством наших олигархов и сверхбогачей, на всех путях…
Наверное, вспомнятся и летние железнодорожные тихие вокзалы забытых малых станций России. За ними – все глухая пыльная полынь, березки, кусты, старые древние чугунные урны, разбитый асфальт. Старые серые скамейки, с треснувшими досками. Древние серые чугунные урны, поваленные набок. Расписание поездов в зале ожидания, где на месте многих – прочерки или «отменен». Серый элеватор вдалеке. Ветер с дальних лесов морщит лужи после недавнего дождя. Тоска, тишина, забвение.
Мелкие провинциальные магазины, обитые розовым или белым пластиком, где в редкие дни, когда бывали хоть какие-то деньги, можно было что-то купить на дорогу, недорогое, конечно…
Вспомнится эта деревянная станция, крашенная зеленой масляной краской по доскам, в ранний погожий и яркий сентябрь года. Года ничем не приметного, который в провинции, как и всякий год, канул в безвестность и несуществование – точно такой же, ничем и не запомнившийся здесь никому, как и прошлый, позапрошлый…
До поезда целых четыре часа, потому сначала обычно отдыхаешь от тряского автобуса на скамейке за станцией. Смотришь, как маневровый, свистя, толкает взад и вперед товарные синие и коричневые мятые с облупившиеся краской вагоны, черные бочки с потеками мазута, платформы. По асфальту, в длинных трещинах и ямках от женских шпилек, выбитому тысячами ног, прыгает несколько голубей – все клюющих, все что-то клюющих там и сям.
Бедность. Глушь. Никому не нужная глубинка.
Сразу за зданием вокзала – шоссе, где на дорогих легковушках, лаково посверкивающих бликами, важно свистят мимо довольные собой и жизнью сытые – и тут же часто дребезжащая рухлядь на колесах, бедных селян. Изредка прогремит яркая оранжево-черная бочка огромной бетономешалки или же — несусветная жуткая длинная фура-динозавр откуда-то из Москвы с английскими оранжевыми буквами по тенту. Где везут недоступное всем здешним селам какое-то богатство – не сюда, в эту ужасающую нищету и разруху, а в дальние большие города.
Сразу за шоссе с его летящим мимо богатством мира – весь пропыленный, бедный райцентр.
Несколько старых двухэтажных панельных и кирпичных домов, с осыпавшимися цоколями, ржавыми крышами, оборванными дверями подьездов. Во дворах этих, как всегда — огромные лужи, вытоптанная глина, сломанные кривые качели, белье на веревках, несколько кричащих детей возле трехколесного велосипеда, две-три вечно занятые и деловитые собаки, куда-то бегущие, все спешащие.
Сбоку — черные от времени и непогод деревянные сарайчики и поленницы.
В цветниках возле станции – два-три пыльных пиона в полыни, в осыпающихся ромашках, в пыльных подорожниках. Гнутые железные оградки из арматуры косят влево и вправо, давно не крашеные. Недалеко неглубокий пруд, похожий на огромную лужу – несколько мужиков черпают у берегов в иле мотыля на зиму. Старая ржавая водокачка – пятнистая, как зебра. Водяная колонка, где набирают воду в эмалированное ведро.
И надо всем горит яркое, какое-то золотое спокойное и несуетное русское небо с розовым облачком, похожим на лохматого старика.
Слабый ветерок шуршит фантиками от конфет, обертками от шоколада, раздавленными окурками, упаковками чипсов у скамейки. Шевелит старую байковую юбку старухи в галошах. Она крепко держит видавшую виды сумку, смотрит на всех исподлобья, готовая в каждом проходящем видеть вора.
Все что-то недовольно бормочащая себе под нос.
Это – летом, в солнце, в сухую погоду…
А в зимы, когда серые низкие облака прямо-таки давят пасмурные леса и поля, в слякоть, вид этого райцентра совсем ужасен: все серое, недовольное, выцветшее, тусклое. Парят вонью полуоткрытые люки колодцев, нахохленные деревья топорщатся – похожие на сваренные из гнутого металла кляксы, черные, мокрые. На дорогах тоскливо блестит густая грязная жижа из глины и снега, черной воды, так что и не знаешь, куда и ступить. В глубоких ямах дороги и дворов запросто начерпать воды в ботинки – и если это случится, обсушиться в дороге будет негде.
В здании вокзала – промозглый холод от чуть теплых пыльных батарей, а новые железные скамьи совершенно неприспособлены для долгого ожидания, маленькие, жесткие, кажутся настоящей пыткой.Из больших окон зала ожидания всегда дует сыростью оттепели. Те, у кого есть деньги, приезжие, сразу уходят в бар, погреться, поесть. Местные досадно отворачиваются.
Холод. Пустота. Медленное серое время.
Поэтому так хорошо вечером в полную темень, при редких желтых фонарях захолустья, вдруг увидеть далекие глаза электровоза. Потом, забравшись в теплый вонючий вагон, можно растянуться и дремать на жестких лежанках до станции, пока проводница в синем форменном пальто не пройдет и не разбудит спящих.
Теперь на железных дорогах нет общих вагонов, дешевых, а ведь еще совсем недавно они были. И сколько же нас, бедных россиян, в них ездило, хоть что-то экономя для без того скудного стола провинции!
В общем вагоне ночью, как и всегда: храп, вонь мокрых носков спящих, покачивание напитка в пластиковых бутылках на столиках, редкое мелькание фонарей в черноте ночи за стеклами вагона.
В двух-трех купе – разговоры, игра в карты, пиво или обсуждение того, как «Степанюк опять урезал премию»…
В тамбуре не продохнуть от дыма, там, как и всегда, какая-нибудь тощая и длинная девица затягивает длинную сигарету, в дорогом сером свитере, в блестящих черных брючках, смотря в стену, опершись одной ногой в стену сзади себя – как кузнечик на высоких каблуках.
Морозно, сквозняки от дверей, потому, лежа в купе, не хочется даже и вставать. Жесткие лежанки годятся для сна только сильно уставшим людям – или очень пьяным. Вдобавок, последний общий вагон сильно мотает, поэтому приходиться за что-то держаться, если лечь, чтобы не упасть.
«Наш железнодорожный министр на таких лежаках не ездит,- крятя и поворачиваясь, замечает мужик, устраиваясь поудобнее, укрываясь полушубком. – Он, вишь, на самолете только летает».
Не оттого ли так много лет, везде и всюду, во всех уголках, так мучается народ России, давным-давно привыкший к этим «неудобствам» – а, точнее, к наплеваательскому к нему отношению ото всех «богатых и успешных»?
На купейные вагоны у провинции нет денег и, вернее всего, никогда не будет.
После таких ужасных неустроенных путей России, все куда-то едущей, все спешащей и едущей, раем покажется любой захолустный повалившийся набок домишко. Любой.
Где, куда ни зайди, старая клеенка на кухонном столике, косящие стены, старые растрескавшиеся рамы окон, кривые полы, крашеные коричневым суриком, дохлый бранчливый обшарпанный холодильник на кухоньках, таких маленьких, что даже не ясно, как тут обедает вся семья. И – мелькающие в окне зеркальные «Форды» или «Тойоты» денежных русских, разбрызгивающие на редких нахохленных прохожих грязные лужи и снег дорог.
А радио из Москвы весело кудахчет и вопит о самом богатом миллиардере Билле Гейце, о всех этих нерусских миллиардерах дерипасках, вексельбергах, абрамовичах, о их яхтах и должностях, о остальных богатых и успешных в этом холодном, неуютном, прозябшем, грязном и мокром русском убогом мире.
Полуслепой кот на подоконнике совсем не слышит воплей радио – и дремлет, так же, как и хозяйка с хозяином- пьют они на кухне такой жидкий желтый чай, что даже совестно называть это питье чаем.
Еще в окно видно, как идет, пьет пиво и весело кричит в мобильники молодежь.
— И какой с них толк в жизни? – выглядывая на проходящих, спрашивает сам себя старик-хозяин.
— Это телевизер их такими воспитал, — замечает старуха, откусывая жесткое печенье…
Изредка на дорогах попадаешь к дальнобойщикам. Тяжелая фура ощутимо водит влево и вправо грузовик, толкает и толкает его в спину – и жидкий снег, перемешанный с водой, шуршит и шуршит во все стороны. Все мокрое: и дорога, и опоры ЛЭП, и встречные автомобили, и зеленые и синие магазинчики, и грязное желтоватое небо в глиняных облаках, нахохленные вороны, поджавшие хвост собаки, старый битый шифер таких нищих деревушек, утопших в воде и снеге почти по черные крыши, в стороне от трассы, что даже совестно – кто вообще живет в такой сгнившей стране?
А в городе, у вокзала, — толкотня таксистов, холеные лощеные выбритые рожи руководителей под их всегда новыми, как будто только из магазина, меховыми кепи, рыже-серо-зеленые курточки-раздергайки селян, давно потерявшие от времени и цвет, и форму, меховые платки старух, шаркающих по мрамору вокзала от киоска к киоску.
Молодежь – парами, веселая, обнимающаяся, целующаяся, все говорящая и говорящая по пиликающим мобильникам, ничего не замечающая вокруг в своей бесшабашности: ни серых помятых и грустных лиц мужиков и баб с деревень, ни бомжа, собирающего бутылки в истрепанных «Прощай молодость», ни мусора, который шевелит ветер у лестниц снаружи…
Седой лохматый бомж в вязаной черной шапочке и рваных вязаных же перчатках похож на унылых вокзальных собак – смотрит так же преданно и заискивающе, если кто-то заговорит вдруг с ним. Но обращающих на него какое-то внимание — мало, большинство, брезгливо морщась, отворачивается…
— Христиане! – глядя на это, вздыхает тощий молодой священник в стареньком плащике.
И тут же – шлейф духов москвички в такой богатой шубке, в сапогах на таком высоком и тонком каблуке, что удивительно, как они вообще не ломаются на трещинах и выбоинах тротуаров!
Наш пригородный поезд, весь затертый, древний и обшарпанный, с деревянными еще скамьями, пахнет пивом, мочой, пылью, сама нищета – начальство на таких поездах также никогда не ездит.
И опять – за немытыми желтоватыми стеклами качается серое марево провинции с редкими, умирающими огнями поселочков, полустанков с ржавыми вагонами. Вьются и вьются, уходя назад и назад, леса, опустелые от осенних ветров, утонувшие в лужах, грязи, ржавчине прошлогоднего листа, голыми прозябшими веточками шевелящие вслед поезду.
Сырой ветер шлепает по стеклам дождем и снегом.
В вагоне натужно кашляют, едят батоны и яйца, читают толстые московские желтые газеты, где и читать, в сущности, нечего: московская и заграничная освещенная солнцем и пипютрами сытая жизнь на московских «дачах» артистов и поп-звезд.
Ночь. Дрема.
Снег и дождь стрекочет в стекла с черной-черной глубиной. И редко, редко – вдруг мелькнет какая-то нефтебаза, ярко освещенная оранжевыми прожекторами. И опять тьма, ночь, ветер, смутные очертания елей и сосен у полотна.
А дальше, за Соликамском, начинаются уже такие глухомани, сплошные угрюмые болотистые темные урманы Севера, куда никакие телевизионщики и гламурные фотографы из Москвы никогда и не заглянут: болота, трясины, озерца, разобранные узкоколейки, где насыпи уже сплошь забило молодыми елочками и елями.
Давно забытые миром слепые деревушки, куда с самого 1930 года кроме «лампочки Ильича» никто ничего не проводил.
Там, в еловых тайгах, забитые тонкими порослями ивы и осины, ржавеют и рассыпаются в прах возле древних еловых сгнивших лежневок увязшие в трясинах, брошенные еще в 70-х лесовозы и тракторы, ржавые бочки. Колючая проволока бесконечных «зон» уже пылит от времени на ветру, забитая вьюнком, иван-чаем и остролистом.
Там возрождается древнейшая безлюдная дикая северная глушь со своими стаями непуганых тетеревов и глухарей, шорохами проворных и любопытных серых белок, внимательно следящих за прохожим с ветвей, сыплющих на тропку шишки. Веселая яркая сойка смотрит совершенно безбоязненно, перпархивая с ветки на ветку, сама разглядывая невидаль – живого человека.
Там — вновь не потревожено растут грибы и лесная малина, ежевика, в речушках спокойно плескает рыба – но никаких дорог туда уже нет. Забвение, тишь, спокойное мерцание фиолетовой воды озерец в багровом пламени закатов, мерное покачивание осоки над серебром вод, и совсем не диво встретить спокойного лося, высоко переставляющего ноги в молодом пахучем ельнике – там, где рубили некогда лес.
Глухие лесные речки городят бобры, на сизых омшелых бревнах отдыхают хохлатые дятлы, целые ночи звенят ансамбли самых разнообразных птиц, и долго-долго не гаснет желтое мертвенное широко разливающееся по горизонтам зарево заката. На вырубленных пустошах уже шумит молодой лес, по песку там и сям деловито спешат серые ежи, ловко подныривая под седые ото мха пни и ветки.
Иногда кажется, что только там теперь можно жить настоящей русской жизнью на Земле – но уже ни единой деревеньки не курит в этих местах дымком из труб.
Только кое-где в этих тайгах наткнешься на позабытое сельское кладбище с ржавыми железными пирамидками и такими же ржавыми звездами и крестами, где уже не разобрать надписей.
Поля, зарастающие лесом, а ведь здесь некогда сеяли гречиху, овес, лен, картофель! Там, где стояли десятки деревень – березы, ольховник, молодые елочки. Только пруды, забитые осокой и ряской, теперь и напоминают об этих деревнях и давно умерших настоящих несуетных русских людях.
В последней глухой деревушке на севере как-то удалось пожить, удаленным от «мира сего».
Черная избенка на три оконца с повалившимся штакетником палисада умостилась у самого лога, забитого диким хмелем, ивой, иван-чаем, крапивой, где вытекает чистейший родничок.
Ночами несколько десятков домов деревушки молчали так же, как молчал в великом Млечном пути разноцветный просыпанный бисер мокрых звезд.
Даже разбитая, никогда не ремонтируемая дорога в деревушку уже вся поросла по обочинам молодым лесом – и можно было, не уходя далеко в чащу, не спеша насобирать здесь грибов или ягод.
Володька, мой сосед, человек начитанный, почти не пьющий, сидя на бревне с колуном возле горы дров, говорит:
— Большинство москвичей думают, что корове, кроме сена, ничего не нужно… Накосил, и весь год лежи себе на койке! Вот ведь! Иногда слышу, мечтают: вот, поеду себе в деревню, заведу корову, буду пить молоко. Это они только говорят так. Так же точно думают и все наши власти. В эмпиреях, на красных дорожках своих офисов…И если бы не эта всеобщая тупость и маниловщина, наша страна давно бы разбогатела и прирастала сельским хозяйством! А то только они и получают в стране нормальные деньги. Чистоплюи!- он замолкает, думая о чем-то своем, глубоком.- Америка хвалится на весь мир своим сельским хозяйством, коровами, фермами, лошадями, плантациями клубники, садами, а они — новой подводной лодкой! А ведь наша страна двадцать лет ничего не производит, кроме легковушек для этих холеных городских задниц! Ни станков, ни самосвалов, ни асфальтоукладчиков! Ни одного нового города на карте страны не появилось, как при коммунистах, зато, смотри-ка, уже целых пол-России уехало в Москву на заработки. В провинции-то на наши копеечные зарплаты с голоду опухнешь! А Москва все руководит и руководит, все выбирает и выбирает — новые власти! Посмотришь на них, они все живут, в Москве-то своей, как будто на Венере! И ничего-то они не знают и не понимают! Зато сколько же десятков миллионов ходят у нас на работе в чистых костюмах или в чулках и короткой юбке! Работнички! А что они производят для нас, России, своими руками?.. Зато никто не ходит за коровами, никто не хочет ползать в навозе в резиновых сапогах! Или глотать пыль в жару на комбайне. Дураков теперь нет! Программа «Развитие села»! А на селе, кроме слепых старух, никого уже и не осталось!
Володька поднимается, берет топор:
— Вот если все эти министерства по стране, Госдуму, всех чиновников-болтунов, всех этих фифочек в чулочках с зеркальцами, всех этих беломанжетников расселить по глухим деревням где-нибудь тут или там в Вологодской области! Какая бы России и всему народу была польза! Несколько обезлюдевших областей сразу бы поднялось, если бы они, как все тут, стали пахать на ферме и получать по десять тыщ в месяц! Но эти чистоплюи никогда не поступятся своими никому не нужными дипломами и должностями. Их оттуда даже атомной бомбой теперь не выцарпать! Так и будут они смотреть в зеркальца и мотаться по городам в своих бархатных сиденьях на иномарках. Мертвые души!.. Так что мы тут по глубинкам будем и дальше загнивать, разваливаться и ржаветь, на радость всем врагам. И ничего-то тут не изменится!…
Расколов дрова, заходим в избу Володьки. Жена красными, распаренными руками стирает белье вручную в старой жестяной лохани возле печки. Таскаем ведрами воду с родника, пока она споласкивает. За это время Володька успевает насыпать курам, покормить пса, полить огурцы.
Сегодня в семье праздник – СПК выделил им целый мешок муки. «Жаль только, что растительного масла только одна бутылка осталась!» — сетует его жена, закладывая дрова в печь и собираясь печь хлеб. Дети смотрят из-за стола, сося палец, вытирая носы кулачком, разглядывая с интересом нового человека.
Старший держит древнего резинового медвежонка с облупившейся краской. Кошка принесла в избу крысу, гордо посматривает с порога – и начинается переполох. Советский механический будильник все еще бежит и убаюкивающее тикает на изрезанной клеенке…
Во дворе над полуржавым «Москвичом» возятся, трепещут, устраиваются спать скворцы в скворечнике, и уже под большой красной луной где-то далеко-далеко в осоке у леса начинает ухать и стонать выпь.
Разбитая лесная дорога до райцентра, среди молодых сосенок и березок, где пахнет грибами и спиртовым духом от старых пней и гниющих стволов.
Полустанок, поваленные в крапиву кирпичные строения, платформа, также разбитая временем, кривая. Тишина, забвение. Сырой ветер из лесов. Бледный полусвет.
И вечером: качанье вагона, фуфайки и куртки, смотрящие из-под насыпи на вереницы ярких контейнеров. Старушка с козой на веревке, в резиновых галошах, в сером платке, в вытертой кожаной куртчонке. Мужики у трактора с прицепом, в резиновых сапогах, стоящие на переезде в желтой глине. Серые, промокшие хрущобы окраин поселков с черными деревянными сараями, косыми заборами, помойными кучами – все напоминает разруху 1945 года! Как будто только-только прошла война!
Забитые полынью недостроенные цеха какой-то фабрики, трубы теплотрасс, машущие на ветру и дожде рваными полотнищами, угрюмые бетонные заборы, исчерканные глупейшими надписями. Гнилые черные городские речушки с непременно лежащей на берегу старой шиной, с ржавыми консервными банками и мятыми пластиковыми бутылками.
Окраины захолустья – свалки, свалки, свалки и раздуваемый ветром на километры мусор. Черные покосившиеся бараки, ржавые водокачки. Хмурый угрюмый осенний полусвет, равнодушное, подавляющее всякое чувство низкое северное серое небо. Рыбьи стеклянные глаза ведущих на телеэкранах в залах ожидания больших станций, пошлейшая и обезьянья трескотня и ужимки ведущих радиостанций – и еще более пошлейшие и бессмысленные песенки безо всякого мотива.
А вдалеке ото всего этого – молчание мокрых предзимних голых лесов за окнами, то укутанных в туманы, то уже повитых лоскутами раннего снега, то искрящихся после дождей на ярком предзакатном солнце, в полоске чистого неба у горизонта по холмам. С тысячами маленьких солнц в лужах на прозябших лесных дорогах, где никто уже не ездит.



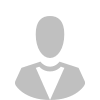

Вопросы и комментарии 0