Письма усопших.
Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил
Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его.
Бытие. 5. 23 – 24.
Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон.
Я увожу к погибшим поколеньям…
Данте
Ему уже сто сорок лет. Знавал он когда-то и лучшие, счастливые времена: начиная с того времени, как научился понимать. Разговаривал он со многими прославленными – с Анненским, еще молодым, не очень известным, видел он и Книппер-Чехову, и Комиссаржевскую, и Станиславского и молодую Ахматову.
Потом он переехал в тот дом, где некоторое время обитал Розанов. О нем Розанов написал в своем небольшом воспоминании.
Да, прекрасное, возвышенное, ровное, несуетное, беседное это было время. Никогда и нигде оно на Земле больше не повторится: нет и нигде не будет таких людей.
Дама, знавшая его в доме Розанова, получила от него множество дивных минут блаженства, понимания и счастья, хотя обычно он молчал, зная, что обычная человеческая речь, разговоры, споры, метафоры, ассонансы, вводные, недомолвки, намеки, центоны – есть только изреченная, привычная ложь. Тот же, кто говорит то, что мыслит, обретается в желтых домах.
Нет, впрочем, с дамой-то он всегда был откровенен — она не боялась заглядывать в бездну, в тайники его души, которые он и сам страшился открывать смертным, суетным существам: они всегда, каждую секунду, были заняты только мимолетным, выгодным, пищевым, земным. Да и все равно бы не послушали – стали плоть, земля. Безводная, каменистая почва.
«Не радуйся множеству нечестивых, хотя бы их число на Земле было как песок морской». А эту фразу он однажды услышал от гостя, запротоколировал ее – и всегда с тех пор жил по ней.
С тех пор, с лет своей юности (о!) он видел тысячи, десятки тысяч самых разных нечестивых. Тех, кто только зря увидел солнце. «Лучше бы им никогда не родиться!» — говорил гость, а потом долго молчал, глядя на свою vis – а — vis, тоненькую, стройную рыженькую, одетую тогда в серый сак, покрытый капельками стаявших снежинок.
«Да, дорогая, дорогая, а наше время уходит, кончается!» — продолжил гость, с грустью смотря в окно. Белые, уютные двухэтажные домики Замоскворечья с газовыми фонарями плыли вдаль, уводили ум, сердце, мечту в необозримую заснеженную Россию на Востоке. Там гуляла уже ночь, мрак. Страна немая, огромная, безлюдная, тянущаяся до самого Северного полюса.
Там, в точке центра, некогда сияла райская страна – Гиперборея, гора, недоступная даже умам Платона или Геродота.
Но немногие гипербореяне все-таки иногда говорили с ним: люди необыкновенного ума, покоя, света, видной наружности. Крепкие и душой, и духом, и телом, ясные умом и мечтой – чего нет у обычных землян. Эти люди знали тайну своей крови- те, кто вели человечество к голубому сиянию Плеяд: лучшие всегда смотрят на звезды. Эти славные люди и держали Россию, истинную Россию – покойную, нешумную, счастливую. Которой многие в мире завидовали – и потому злились, мечтая ее уничтожить, овладеть и ею, чтобы практичное человечество более не смотрело на звезды.
Ночами он любовался Плеядами, завидуя тем, кто там уже живет – не он же, со своим громоздким телом, прижатым тяготением только к этому маленькому земному шару.
Еще он слышал стихи, рассказы, песни гипербореян, первой цивилизации, людей легендарных, славных на Земле – титанов до Потопа, о которых говорит Писание.
Именно они основали первое поселение там, где теперь дымилась в морозе Москва. Тогда же, в гиперборейские времена, вся страна, которую впоследствии описал Нестор, представляла собой только почти безлюдные хвойные и лиственные леса без конца и края, болота, речки, холмы – лес солнца до горизонта, где везли и несли на руках сноп пшеницы, подаренной на Крите ахейцами. Дар негреческому богу Аполлону, покровителю искусств.
По всей земле же тогда был один язык и одно наречие: по лицу всей Земли все понимали друг друга, не было чужих.
Все это знало, видело, помнило только его тело, его гены – не ум, не сердце, не душа, не память. Ему рассказывали, что под полярным сиянием эскимосам, полярным исследователям иногда еще видна эта сказочная страна, не от мира сего, Беловодье, гора Меру, центр мира, град Китеж, город сказок. Чтобы люди на Земле никогда не забывали, кем они могли бы стать.
Ах, но как же прекрасно, чудесно, розово и сине, бархатно и мягко, снежно, морозно, далеко, ясно было в тот тихий зимний день в Москве!
А потом — на улицах ревело, вспыхивало багровым, стучал вдалеке за окнами пулемет, бежали черные точки – тоже земля, прах и плоть.
Затем – пришли нечестивые, кричали, требовали, одетые в черную кожу, говорили такие слова, каких он раньше никогда не слышал. И дама, которую он знал, навсегда пропала.
Потом для него начались плохие, жуткие времена: в комнатах зимой не топили, стало сыро, холодно, темно, жутко. Больше всего жутко не от холода, а от неизвестности. Властвующей во всех углах неизбежности, ночи, которая почему-то у людей почему-то называется судьбой: «У него такая судьба!»
Он стал жить в какой-то большой квартире: с радио, фикусом, попугаем, с портупеей на стене и маузером.
Никогда в этой квартире он не слышал больше разговоров о галактиках и звездах, ни об искусстве, ни о стихах, ни о первочеловечестве на Земле, ни о судьбе славян или германцев.
«Аристократ проклятый!» — называли его теперь.
Ночами он видел багровый и черный пламень, сверлящий миллионы лет базальт и гранит, всегда холодный от России, уравновешивающей в мире нижний огонь – и своими морозами, и водами замерзшими превыше небес. Он благодарил в такие минуты небо за этот мороз, за холода, за снега, видимые в окна в темные ночи – звезды отвернулись от нового, невиданного ужаса, новой страны на Земле. И только белые девы метели и снега танцевали в полях, лесах, на крышах домов, на водосточных трубах.
Россия поднялась, он думал, выше остальных стран на три тысячи метров – заоблачная, неземная, снежная страна: страна, откуда все бежит от холода и мороза, от нищеты, от бедной и скудной почвы, от безлюдья и смерти. Бежит на юг, где извечно копились и копятся все нечестивые Земли – дикие и жестокие народы в своих странах и своих цивилизациях.
Только сильные духом выживают в нищете, морозе и вечном холоде, который зовется Россией-Гипербореей.
Поэтому в России, думал он, так хорошо умирать: ибо день смерти – главный день всякого на земле. Второе рождение – или вторая смерть, которой нет. И поэтому есть то, что гораздо хуже смерти – бытие в небытии. Точнее говоря, забвение, серая, гулкая долина смертной тени, не имеющая ни границ, ни начала, ни конца – как душа гордого, думающего, что он знает все лучше других.
Боятся ведь не смерти – боятся темного гроба, тишины, капели воды в щели досок. Или, пуще того, боятся сгореть в огне, утонуть, вечного погружения во тьму вод: а вдруг я, мертвый, все буду видеть и чувствовать? Такие мысли всегда посещают живущих только досужими разговорами.
Смерть для них – тайна, загадка, ребус, который так никогда и не будет разгадан: жить еще до-олго!
Страшился ли он смерти? Но не страшней ли смерти – жизнь? Нет ничего страшнее неизвестности, темных углов, беззвездной ночи во льдах, где неоткуда взять огонька. Страшно, когда ты, например, видишь: ходит в ночном коридоре сам по себе плащ, прихорашивается меж двумя зеркалами. А зеркала уводят в неизвестность, в темные залы князей тьмы.
Страшно, жутко жить в России! Здесь всегда никто никого не замечает. Поэтому после того, как он поселился в комнате с фикусом, он больше не видел в окнах никого на улице – там всюду ходили мертвецы. Все – мертвые, которым мешали живые.
Ранее, до того, как он попал в дом с фикусом, он видел многолюдные собрания и концерты радостных мертвецов. Аплодировали, бросали букеты, но трупный запах нового времени сизовел и марил. Самое страшное, что никто не собирался этих аплодирующих мертвецов хоронить.
Потом он видел и детей мертвецов – видел, кем они становились, когда вырастали, учились в институтах, кого они воспитывали. Какое время и какую страну вокруг себя строили, руководя и направляя.
Но более всего он не любил дни, когда мертвые хоронили своих мертвецов, устраивали пышные поминки. Окружающие его существа и не помышляли, и не предполагали, сидя за столами и произнося панегирики уже лежащим под землей, что уже совсем скоро внезапно воссияет среди ночи солнце и луна – трижды в день. Что с дерева будет капать кровь, камень даст голос свой и все народы поколеблются. Что тогда, в эти скорые времена, море извергнет рыб, будет издавать ночью голос, неведомый для многих — и все услышат этот голос — тех, кого сожрала тьма и забвение мира.
Он знал, смотря на выпивающих, чавкающих и закусывающих, что уже во всем мире все друзья ополчились друг против друга, что все это – показушная дружба врагов, что на Земле сокрылся ум и разум удалился в свое хранилище.
Пьяная балерина из Большого театра в такие поминки вертела перед нечестивыми ногой. Сидя в черном, траурном, вся власть и жрущие кричали, махали вилками, хлопали: «Браво! Браво!» — несмотря даже на то, что из комнат еще не выветрился жуткий зеленый трупный запах.
И он, отворачиваясь, думал тогда о будущем: когда большие книги раскроются перед лицом тверди, и когда однолетние младенцы заговорят своими голосами, когда беременные женщины будут рождать недозрелых младенцев через три или четыре месяца, и они вдруг укрепятся.
Он смотрел за пропасти и стремнины, куда в движение серых клубов тьмы сводило мертвых: узкий мост, истоптанный миллиардами ног, вел на крутизну, где по правую сторону гудел огонь, а по левую — дымилась жуткая черная вода без отражений, неподвижная, как металл. И та тропа была такая узкая – как одна ступня человека. А люди все шли и шли туда, и никакой памяти от них на Земле уже не оставалось. После поминок с похмелья никто не мог вспомнить, кого же вчера так пышно поминали?
Он спрашивал у метели: «Куда уходят люди?» И она отвечала ему: «Зев преисподней сожрал всех их, ибо во время жизни они не помышляли о жизни. Они не помышляли о борьбе, и потому конец их законен».
А в широких коридорах дворянского особняка теперь мотались, держась за стены красными ногтями, две пьяные ****чонки-певички, лауреатки Госпремий. Голые, с кожей в пупырышках, плясали меж салатов и супов. Хозяин, помахивая серым маузером, благосклонно смотрел на них, подергивая рыжей козлиной бородой, — и не подозревая, что всего-то через месяц и сам будет уже убит в затылок в тех же самых подвалах, где он некогда расстреливал классовых врагов. Глуша человеческой кровью из кружки, прямо с полу, бледные попреки бессильной совести: ведь кто они, его жертвы, были ему? Обирая потом при обыске в домах и квартирах убитых золото и драгоценности.
****чонки стучали кулачками, куксились, глядя на хозяина, нетерпеливо сучили кошачьими коготками: «Не хотим больше нашу Веру в правлении!» И наутро эта самая Вера уже не сидела в правлении – она сидела в подвалах.
Так – обосновывалась и строилась вся эта новая, крикливая, шумная, толпливая страна, в которой он вынужден был теперь обитать до последнего дня. Таковы стали все ее известные и популярные, их дети, дети их детей, дети детей детей – строящие свои карьеры только на уничтожении и попрании всех, кто не имеет влиятельных знакомств.
Так, именно так, основалась вся эта новая жизнь, все новые ее люди: «Умрите вы все сегодня, а я как-нибудь потом!» Такова — стала вся Москва, ее законы и установления, ее хозяева – и большие, и малые. Поэтому он терпеть не мог никаких трансляций с эстрады или из театров: новые певцы и певички, артисты, лауреаты, признанные, осыпанные цветами были все таковы – о них говорили, что выползли петь наверх «по блату».
Он-то знал, какова вечная цена такой известности и этих букетов, аплодисментов – метель показывала ему всех их, их истинную сущность за личиной.
****чонки стучали по нему кулаками: какую пользу приносит на Земле смирение и кротость? Только – синяки, кровоподтеки, забвение, посмеяние от тех, кто владеет этой жизнью, наслаждается ее благами, притесняя молчаливых и несуетных.
Только ночами, когда метель качала фонари, когда ни одна звезда не смотрела вниз, жизнь за окном становилась похожа на жизнь – на ту давнюю, упоминать о которой было запрещено, смертельно опасно. Ту жизнь, когда еще розовело и синело на куполах, на двухэтажных каменных домиках, на извозчиках, на прохожих, на апельсинах в окнах магазинов, на разносчиках с баранками, квасом, на господах в бобровых и собольих шапках и на синих и белых ридикюлях дам в манто и горжетках, зябко постукивающих каблучками на льду…
А в ночи ворочалась, стенала, сетовала Россия во сне, который ей навязали. Да, Россия: снега, пурга, волки, леса, ледяные реки, где на черном дне спят непохороненные живые, смотря замерзшими глазами вверх, сквозь голубой лед, ища луны.
Да, Россия: где, если выходишь в лесах на огонек, непременно попадаешь в какой-то черный дом, где странная, бледная дева точит нож, смотрит невидяще вдаль через оконце, через свечу, охлаждая раскаленное лезвие снегом.
Да, Россия: где в серых пасмурных городах бродят нынче серые мертвецы с пеленой смерти в глазах, в которых ничего не отражено.
Россия – загробная страна. Тут нельзя жить, но хорошо и весело помирать простому человеку, ибо какой прок просить помощи у мертвецов?
Россия – страна одних снегов и бесконечных кладбищ. Здесь все – сама вечность, оцепенение, незыблемое, недвижное, где новый век не зря останавливается, опускает руки – и бежит вон, подальше. Лед, снег, мороз, пурга, тьма, долы и черные, нищие селения с подслеповатыми оконцами в снегу – в мареве, в мираже метели.
И вот уже, когда радио голосом Молотова наконец объявило заслуженное всеми наказание свыше, он, в отличие от ужаса миллионов, обрадовался. Ибо никогда ранняя смерть всякого праведного не бывает безвременной – как и слишком поздняя нечестивых. Он прекрасно понимал этот сложный, вечный закон, призывая последнее время этой гремящей, безжалостной и крикливой стране.
Рушились в огне и вое железа башни гордых, тысячи придавливало ими, огонь и меч царствовал и на земле, и на небе. И если свистело сверху и вдали грохотало, он знал: это корчатся, гибнут, горят заживо нечестивые. Или просто забирают еще не испорченные обществом души — чтобы не осквернились от проклятых, владеющих Землей.
А что потом? Потом он ехал вместе со всеми на Восток, трясясь в «Столыпине». Он все же был аристократ, дворянин. И потому угрюмо молчал, глядя, как выли и роптали, кричали друг на друга изнеженные новые москвичи: они впервые увидели, как живет Россия. Морщились от картошки в мундире, от крупнозернистой соли, которой кормила Москва народ. Москвичи не привыкли спать на досках – стелили на доски чистые простыни. И народ, лишенный всего этого новой системой, отвыкший от уюта за двадцать лет, удивленно взирал на белые простыни – именно Москва свела всю Россию вновь в девятый век, отбирая у народов все только для себя.
Он стал жить в большой зале, вместе с несколькими столичными – в деревянном двухэтажном доме, только что построенном между рекой и железной дорогой, в сосновом лесу. Неподалеку было кладбище, где хоронили простых россиян, приехавших из нищих деревень – тех, кто строил порт на Каме, в лютые холода, на обжигающем ветру.
Москвичи все поустраивались на должности: кто учетчиком, кто мастером, кто кладовщиком. Сидели при жарких буржуйках, ели спецпайки, масло, белый хлеб, халву, колбасу, сахар, курили «Казбек», а не махорку, покупали за мыло и иголки горы вкусной и питательной еды. Ни один из них не нес заслуженного наказания и воздаяния – они широко и вольготно жили здесь, тут, сейчас, на Земле: как и прежде, жили сыто, весело, при скрипе патефона — в комфорте, в тепле и неге, как боги всего и вся, всей России.
А на кладбище хоронили, хоронили, хоронили в мерзлую, стылую глину простых россиян: в лаптях, в онучах, в зипунах, отощавших, туберкулезных, синих — настоящие скелеты. На их место по указу Москвы привозили новых и новых: он видел множество самых разных лиц, национальностей. Читал вместе со всеми газеты, слышал голос Левитана, смотрел на большую карту, где красные флажки все больше продвигались к Западу. Вдыхал сладкий запах махорки. С изумлением видел у всех глубинных россиян вместо спичек древнее кресало – Россия, настоящая Россия, была опущена Москвой чуть не в каменный век! Он слышал разговоры, вздохи, стоны, жалобы простых русских, удмуртов, татар, марийцев, узбеков, эстонцев, финнов, немцев, латышей о угле, о лопатах, о ломах, о картошке, о кубометрах и дневной норме выработки… Но – их стоны никто, никто не слышал.
Были разговоры об укропе, о большом урожае яблок, о трех стерлядках, выловленных сегодня в реке. Впрочем, это уже потом – когда сняли карту со стены.
Лета сменяли зимы, старел и бревенчатый двухэтажный дом, все больше чернея. Молодые танцовшицы в ситцевых и крепдешиновых платьях становились колченогими старухами в коричневых простых чулках. Лица морщились, дрябли – казалось, все горе мира, все его болезни и страдания прячутся в этих морщинах.
Провинция же была настолько дальняя и глухая, что никто в современности и не подозревал, что она вообще есть, что бывают на свете такие места, где время остановилось в недоумении, где все неизменно, неизбывно – места и долы, забытые и телеоператорами, и проезжими, и всем человечеством, мечтающем только о море, песочке, солнце и бикини.
В этой провинции вовсе не нужна была современность, настоящее, ибо здесь-то все знали истинную, вечную цену простой, бедной и незатейливой жизни. Здесь все прекрасно интуитивно сознавали, что Адаму, всякому Адаму, всякому смертному положено в поте лица, в ужасах и страданиях, а не в неге и холе, среди волчцов и терний сеять, копать картошку, поливать в жары репу и капусту из лейки. А в зимы, длящиеся по полгода, знать, что в магазине на прилавке нет ничего, кроме соли, макарон и прогорклого масла – все увезено и съедено цивилизацией. Здесь-то все прекрасно знали, что всякий смертный в этой стране просто не достоин видеть на столе то, от чегоотказывался Адам и что так любил Каин – первый сытый и превозносящийся над всеми на Земле.
Здесь знали, что вся Земля была, есть и будет проклята до скончания времен – из-за славных, гордых, кичащихся, обирающих других, живущих на их горе, нищете и вздохах. И, поскольку Земля проклята, здесь не восторгались красотами природы, даже не замечали их, а только работали, работали и работали. Днем – на государство и веселых прожигателей жизни в городах, вечером на себя. Копали землю, унавоживали ее — и собирали потом с нее скудный урожай скудной земли. Под холодным и равнодушным серым небом.
Эти кроткие, о которых сказано, что только они наследуют Землю – не царство небесное – в глубине души знали от своих верующих предков, что тяжкий труд на земле с лопатой не дает времени для греха, для праздности, для развлечений. Как у всех остальных, у остального человечества – все человечество заполняет щели неверия, проклятия, отвержения в своих черных и каменных душах развлечением, пустотой, сплетней. Смертную скуку и тоску.
И потому никто из этих простых трудяг не стремился ни в Москву, ни в ее квартиры, ни в ее заваленные едой и товарами магазины, где царствует обжорство и сребролюбие – смертные грехи, наполнители и князья ада. Ведь сребролюбие – начало всех грехов, самый верный путь в тартар – гораздо более худшее место, чем сам ад.
Он слушал разговоры и беседы этих простецов, и постепенно перед ним разворачивалась вся настоящая Россия, не описанная столичными знаменитостями – та Россия, которой так страшатся и потому так презирают все избалованные и сытые, захватившие все лучшее на планете – как будто они одни живут на Земле.
Он благодарил небо, что попал сюда: он и не подозревал, что есть еще на свете кроткие, чистые сердцем, милостивые, забытые и не замечаемые всеми, гонимые, обиженные и осмеянные наглыми. Последние избранники, сказано и предречено, будут сражаться с самим сатаной и миллиардами его сытых и многословных слуг. И будут голодать, холодать и страдать все больше и больше.
Они же, эти столпы и основы жизни, никогда не думали о себе высоко: работали, молились дома у старых икон, так как в округе все церкви были обезображены, превращены Москвой и ее новыми хозяевами — явно не россиянами, кому было мерзко все, что в России — в очистные, в хранилища удобрений, в свинарники или склады. Крестьяне вздыхали обо всем этом, но были неграмотны, не могли выразить всю свою боль в словах: ни одному праведнику не нравится вся нынешняя жизнь, ее привычные, приглядевшиеся всем основы и постулаты.
А утром крестьяне снова ползли в валенках в тайгу, в мрачные ельники и мшары по глубоким сугробам. И работали, валили лес. При добавочном, титаническом грузе земли, всей земли, всех ее сытых на своих хрупких женских плечах – дабы мир и небо не рухнули.
А этот мир только что и делал что веселился, кутил, плясал, праздновал победу. Мир всегда только тем и занят, что ворует, лжет, бездельничает, создавая видимость труда в бумагах и в разговорах, на заседаниях, сессиях, ассамблеях, симпозиумах, встречах, которые ничего не решают для всех забытых по своим провинциям и глубинкам. Для всех крестьян и земледельцев, хлеборобов всех стран: изможденных, с черными узловатыми руками, с лицом, выжженным солнцем или морозом.
На Земле – две независимых и никогда не соприкасающихся между собой цивилизации: злых – и праведных…одна другую презирает: «Колхозники!»
Село на Каме — была истинная, белая, нелживая, чистая глубинная и незапятнанная крестьянская Россия, Дом Пречистой на Земле.
Чем-то эти простецы очень напоминали ему свою любимую деву-дворянку. Но чем, он никак не мог уловить и выразить в словах. А простецы по вечерам, сложив сырые валенки и ватники на печку, тихо беседовали, варили картошку, закусывали скудным хлебом, плакали о погибших и пропавших.
Он смотрел в ночь, в еловые леса, и что же? Там больше не было столичной тьмы: шла над кронами сосен чудная и огромная луна, выявляя в темноте жизни светлый круг села у Камы. Луна сияла и указывала кротким пути в ночи. Улыбалась и ему сквозь заиндевевшие, сказочные окна в цветах и дивных папоротниках. Фонарь сиял через морозные райские листья и цветы – как напоминание всем о небесах, о райской непроклятой природе. А он все смотрел, смотрел на древние иконы. Мученица Елизавета в такие вечера была похожа на его даму сердца – там, там, давно и далеко, всовсем другой стране — как где-то на иной Земле.
А однажды он вдруг услышал, как какая-то девочка далеко, в соседней квартире, но ясно, громко поет простую, незатейливую песню – и похолодел от радости – голос девочки был похож на голос его дамы, пропавшей бесследно:
В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро.
Молча принесет воды.
Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
Так поют только истинно светлые – те, кто только и угоден небесному звездному взгляду.
Он тихо подпевал девочке, луна качалась в саду как дева на качелях. И само время, устрашившись святости, чистоты песни пошло вспять, ошарашивая внешний давно адский и черный мир. Само время остановилось и поглядело в окна дома. Мертвая и косная природа ожила, повинуясь голосам потустороннего мира, подпевала тоже. Впрочем, остальные часы в других домах этого не заметили – чудо бывает не для всех.
Он потом долго смотрел в окно, и неожиданно увидел: идет в сияющих ночных облаках вся белая, одетая в ризу с бриллиантами и жемчугами – истинная царица России, управляющая ее простым народом – блистающая роза, красивее и нежнее которой нет и никогда не станет нигде на Земле. Она улыбнулась ему и промолвила, сияя: «Познавай тишину».
В комнате же все спали, разморенные жарко натопленной печкой, упокоенные луной, снегами, синим блеском полночи и сосулек с крыши, звездной пылью на сугробах, треском сверчка.
Люди улыбались во сне, видели цветные сны, не подозревая причины ярких и радостных стран этой ночи. Кто-то видел себя в цветущем саду, кто-то – еще юным на берегу реки, кто встречался с давно умершими любимыми: все мертвые живы.
И вновь, и вновь наступало утро: топили печь, гремели кастрюлями, вздыхали, уходили на работу, скрипя по деревянной разбитой лестнице в подъезде, слушали радио. Стирали в жестяном корыте белье, а потом его, задеревеневшее на морозе, вносили в дом большими бумажными листами. Исписанными тайнами ветра России – целые огромнейшие тома о истинном прошлом, настоящем и будущем. Чего, увы, никто не может прочесть слепыми глазами привычки.
Словом, шла обычная, безсобытийная жизнь, не интересная ни писателям, ни читателям.
Только старинные напольные часы, привезенные в эвакуацию, все шли и шли, никуда не спеша, не меняя темпа настоящего времени вселенной.
А жизнь вне, где-то там, далеко-далеко на Земле продолжалась: так же живые плясали на костях мертвых. За время неправд, немощи, растления и стонов забытых так же вечерами зазывно сияли окна ресторанов, так же аплодировали какому-то дурачку в театре, хохотали, глядя на его личину, обезобразившую образ человеческий, слушали его плоские каламбуры и тупые шутки, кидали на сцену букеты и ждали у выходов.
А в это время в мороз, во тьмы, в небытие шли и шли, плача от ветра в лицо, лучшие, верный остаток, титаны, держащие на себе города, шумы, крики, газеты, бег толп и столпотворение бирж и кинотеатров. Метель сразу заметала их следы, чуть заметные в белесом мареве ночи, ветра, под темной хвоей лесов.
Метель задувала кресты на ночных кладбищах, путалась в фермах железнодорожных мостов, гудящих в ночи и скрежещущих на морозе – сталь не выдерживала, лопалась с грохотом и гулом надо льдом реки. А люди все шли и шли вперед – по черному льду ночных рек, по кустам и полям, по буеракам и оврагам, сопровождаемые только красными глазами волков и медведей – огибая далеко теплые и уютные огни городов, не входя в них.
Там теперь жила только смерть, погибель, хаос, древние боги крови, чары тьмы, пожирающие собственных детей и младенцев в утробах. Там теперь жило новое язычество – и миллионы его детей и внуков с молниевидной печатью гордыни древних язычников Вавилона во лбу.
Простецы растили детей, но дети их хотели веселой, беззаботной жизни, не работы, а синекуры – ворошить какие-нибудь бумажки, сидеть в тепле. Получать огромные оклады, а не мерзнуть, не трудиться в поте лица своего, не созидать и украшать по заповеди тяжкой работой Землю.
И там, в городах язычников, дети становились такими же мертвецами, рядовыми трупами. Отверженными навеки от звезд, земли, заповеди, пения птиц небесных, тишины неба.
Невозможно не испачкаться тому, кто дружит с добытчиком смолы. Точно так же тот, кто берет пример с ростовщика, сребролюбца, лиходея, живущего в больших роскошных зданиях, непременно и сам станет ростовщиком, менялой, банкиром или мытарем, презренным во всех вратах города. Мерзок и перед людьми, и перед небом тот, кто дает деньги в рост!
Эту смерть называют хорошей жизнью, привыкают к ней, едят с ней — и смерть потом их всех встречает как родных и уводит в закрепы и бессветные железные замки смерти. Звенящие в клубах мрака и вечного холода. Тьма внешняя, куда боится взглядывать и Каин – первый строитель всех городов на земле, придумавший их – города из камня, гордого гранита: « Наказание Твое больше, чем снести можно».
Благо, что земля России не родит камень – как земля долины Геенном. Простецы не сажали на ней виноград – виноград им ниспосылало небо: сидя за бутылкой красного вина, они не пели тех песен, что поет большинство, а, выпив, не перебивали друг друга, не высокоумствовали и не помрачали вселенную словами без смысла. Простецы этого занятия просто не знали: ни школа, ни лживые учебники не оставили в них ничего.
А что же, что же делали все остальные?
Наконец настал покой после бича и воздаяния, голода и мора. В соседних домах воспитывали детей: скандалили, ругались с директором за премию, петушились и пучились, ходили в майках, почесывали пуп, воровали друг у друга на общей кухне кофе, страшный дефицит в забытой земле. Резали друг друга ножами после танцев, избивали во тьме прохожих. А затем с похмелья шли на работу – в серые, пасмурные облака и лужи.
То же происходило и в городах. На темных улицах царила поножовщина, речь убийц и воров. А за дверями квартир за дерматином, спрятавшись от построенной ими жизни, многоученые и суемудрые, лучшие из них, мечтали и тщалися свергать уже со свода небесного звезды и покорить их. Этих многоученых все любили, читали их суетные мечтания, превозносили, тратя на это жизнь. Гордыня и лжеименный разум росли, на улицах царили тьма, ужас и яма. У них была и своя песня. Свой гимн и религия:
На пыльных тропинках далеких планет
Останутся наши следы!
Но смерть писала свои строки – не зависящие от мнения и песен пяти миллиардов.
А вне дома опять царствовал меч, тьмы и мрак. Внутри домов – петля и сны, помрачение смысла и волхование на цифрах и поклонение воинству небесному. Внутри домов царили всюду обман, жадность, коварство, дележ, свара, полная ночь и серные ямы язычества – новая Москвазнала, что в скученности города человек быстрее превращается в послушное мерзкое городское многоглазое и многорукое животное, кормящее миллионами сосцов самых наглых и богатых никем не призванных царей и князей Земли.
И все эти соседи, и все городские, осквернившие себя и землю, умирали: несли их красные гробы под звуки сверкающей меди. На товарищеских панихидах опускали в зубы смерти гроб на веревках, торопливо засыпали все это позорище землей. Ставили железную звезду или гранит — ибежали на поминки: « Да будет ему земля пухом!»
Страшная звезда уже проливала кровь и язву, но не здесь, у простецов в деревне. Оставшиеся в лесах у говорящих звезд, слышали обо всем этом из разговоров от путников, изредка случайно набредавших на село. Крестьяне растерянно слушали все это. Не веря, что такая жизнь вообще может где-то быть.
Простецы не ведали смерти – сама смерть медлила стучаться в их дом, ибо на весах совести еще не исполнилась мера и чаша зла на земле.
Простецы вздыхали: «Что-то зажились мы на этом свете!» Их давно уже не интересовало что происходит на планете, какие еще новшества и какие песни поют сыны адамовы. Они не слышали ни рева стадионов, ни грохота ракет, ни шума псевдомузыки, не знали, что железо и бумага уже опутали весь мир. Старое радио давно сломалось, и в его тарелке паук вил свою паутину. Тишина ходила в доме по скрипучим половицам, осыпалась штукатурка со стен, точильщик грыз черные бревна. Дети детей ковыряли пальцем рваную клеенку на дверях.
И только огороды и садики вокруг все так же цвели яблонями по веснам, полыхали костром астр по осени. Зимами черный старый дом горел розовыми окнами на синем закате.
За рекой, за полосами снега на синем льду, вырос на горах новый хвойный лес. Вечерами иногда небо было похоже на море, на порт с волнорезами и кораблями океана, которых никто никогда здесь не видел. Ночами все так же пел сверчок за печкой, весело трещали и перестукивались дрова в топке. Блекли старые желтые фотографии в рамке за стеклом — и размытые лица поятых смертью больше уже не походили на живых. Телескоп, оставленный на чердаке звездочетом, один смотрел в голубое пламя Плеяд.
В соседних домах пахло валерьянкой и кончиной, под гроб ставили таз с марганцовкой. А здесь воздух был сух, пропитан запахом хвои, мороза. Старый колодец давно обвалился, изоржавела цепь, рухнул ворот – и тот, кто брал из него воду, уже ушел в последний путь свой.
А смерть упрямо обходила этот дом, и никто не знал тому причины.
В городах при сроке оценки душ было вместо благовония зловоние, вместо шелка и театральных роскошных одежд — мешковина и веревка на поясе. Некогда роскошные, завитые волосы превратились в плешь, красота обращалась в клеймо и в ужас смотрящих. Те, кто были некогда мудры в своих глазах, заседали в жюри, советах, измеряли талант и гений земными мерами, проталкивая знакомцев и собутыльников, знакомых знакомых, знакомых жен и деверей – те мудрые превращались в посмешище и в покивание голов: « И эти, эти – они были знаменитыми?»
Их звания, их премии, их тома, их награды – стали дымом печи, трубой крематория. Черный дым рассеивал их страницы и волосы по полям. И сами они, славные, знаменитые, одевавшиеся некогда в меха, сверкавшие золотом, — все они были осуждены вечно вертеться и мелькать, катится перекати-полем под ветром по стеклу и железным игламчахлых растений в мрачной пустыне долины смерти – у всех проклятых на виду.
Живые же, пытаясь найти успокоение от своих городов, обращались в гаданиях к древним богам, к вызывателям умерших и чревовещателям, к шептунам и чародеям. Они смотрели наверх, вычисляли будущее по созвездиям, испытывали там свою судьбу. Но и там, как и на улицах, были горе и мрак, проклятия и стоны падающих вниз умерших, густая, осязаемая тьма. Солнце дымилось и луна бежала, чтобы не смотреть на них.
А простецам в их бревенчатом доме сиял яркий свет, ибо они никогда не были увлечены веком и тем, что в нем.
Те, кто гнался за веселой жизнью: «Я красиво живу!» — те вдруг среди бела дня на тротуаре увидели самую глухую ночь, и упали, и разбились на куски. Потому что всю жизнь только и делали, что слушали тех, кто говорил им лестное, предсказывал доброе и приятное. При жизни они опутывали простецов липкой паутиной слов, отталкивали от себя правых, оправдывали глупых, замалчивали жестокое для себя и своих друзей.
И поэтому их постигло заслуженное: опустошители, которые опустошали народы, и сами были опустошены, и их дети, и их внуки. И все эти роды родов заслуженно умирали внезапно, или же годами гнили в своих постелях, покрывались черными пятнами и червями заживо.
Родственники везли их в клиники за границу, тратили кучу долларов на их излечение, но кто остановит воздаяние?
В двухэтажном же доме со многими окнами покойно в январе цвела герань, чесалась кошка на подоконнике, по улице бродила корова, а на поленнице во дворе прыгали синички.
2
Процветали вдали цивилизации, сама меркантильность ходила по асфальту в белых и серых костюмах, с белыми холеными руками, как у женщин во дворе Людовика. С руками не знавшими ни плуга, ни труда. Шумели шоу и продюсеры, обритые наголо певички, одевшись в мужское, славились между суемудрыми на стогнах и зубцах стен. Шли парады геев, на подиумах что-то крутилось, мельтешило, сверкая черными веками и фиолетовыми колготками гниения и могилы. Миллионоротый Шива орал и свистел на стадионах и ревю, в концертных залах и ангарах. Ракшасы, обритые наголо, безлицые ноли, мясорубки и насосы — с детства привыкшие к взрывам и огню, булькали и дымились отовсюду. Модельные агентства искали новое мясо для толп. Деньги и слава, голубые модельеры, режиссеры, писаки-бестселлеры, попугаи-пародисты махали ручкой фракам и декольте в свете оранжевых софитов.
Души-мотыльки, уверенные в том, что им-то давно забронировано место на небе, метались вверх — и сразу же попадали в металлическую воду тьмы, в сеть, липкую и вездесущую. И в этом мареве вдруг осознавали истинную суть своей жизни.
Принцы разьезжали в посеребренных лимузинах, миллиардеры давали интервью, старели и увядали куклы кинофабрик, выжатые как швабра вожделением и взглядами всемирных колдунов. Зачем-то играл орган в соборе над грудой ужаса в гробу – желтый пергамент трескался на жаре, обнажая черное мясо.
Русские, у кого была хоть какая-то возможность спастись от истребления, весело, подпрыгивая от радости, скакали уже через JFK: «Наконец-то мы, мама, вырвались оттуда, из этого ада!»
Всемирная дама говорила: «В России хватит пятнадцати миллионов населения. Остальные — лишние».
И эти лишние стали умирать заботами все той же Москвы от нищеты, от суррогатов, потому что у них уже не было денег на вино, на хорошую пищу, на лечение и санатории. Обезлюдевшие села становились по словам и указу этой дамы пристанищем сов, соек и мышей. Вся страна была опрокинута в ничто. Впрочем, она уже давно там находилась – русским вымирать было не впервой.
Зачем-то все богатства земли везли на Запад эшелоны и корабли. Новая нерусь, в золотых цепях и тюремных наколках, ставшая депутатами, губернаторами, управляющими заводов, банков, рудников, полей и фабрик, никем не званная – кроме разве властителя всего зла и горя на Земле — сверкала мимо обезлюдевшей страны в лакированных автомобилях. Эти жуткие жабы, не имеющие ни совести, ни чести, пожиратели чужого, всегда не знающие сытости и меры, эти оккупанты обитали в городах за высокими заборами, под охраной от голодного, ограбленного новыми монголами народа. Баскаки оккупантов бродили по квартирам и домам, тоже безжалостные, наглые, как и их хозяева, с пуленепробиваемой кожей, умом и сердцем, забирали в домах бедных пролетариев, у без того ограбленных жителей страны оставшееся. А миллионы по-прежнему создавали своим пустым кошельком их рай на земле, их Багамы, Кипры, Сейшелы, Турции, Египты и Ниццы, их «Абсолют» и рокфор, их дворцы за городом. Эти новые сытые, довольные собой, их охранники насиловали на улице дев и женщин – им хозяева планеты позволили все. Перепившись, баскаки со скуки стреляли друг друга, деля земли и налоги, собранную дань новой Орде – Западу.
Умершие от ига и полного забвения миллионы русских, удмуртов, татар, марийцев, коми вопияли, не найдя себе упокоения: « Доколе, доколе Ты будешь позволять им это иго?»
И тогда Он, сострадая нищим, будучи испокон веков их защитником, уже единственным защитником, позволил открыть жерло и засовы на железных дверях Земли.
Древние силы хаоса и тьмы тут же ринулись в города – и стали терзать богатых и сытых оккупантов, их слуг, их приживал и приживалок, их новых князей – сообщников воров: «Когда безводные духи вернуться назад в свое жилище, и находят его чистым и подметенным, то находят еще семь злейших духов себе на помощь — и бывает последнее горше первого».
Бесноватые новые хозяева жизни смотрели невинно с экранов, их кровавое свиное рыло заполняло весь экран, чавкало и жрало прилюдно красное дымящееся человеческое мясо миллионов жертв. Эти свиные рыла хвалились друг перед другом и перед всем миром на Кипре, в Америке, на виллах в Майами, в Ницце награбленной роскошью и драгоценностями – и хозяин духов радостно над ними потирал руки: «Все – стало теперь мое!»
В Черной Гоби, в том месте, куда владетель миллиардов был некогда свергнут с седьмого неба, где ландшафт поэтому такой же до сих пор, как и на Луне, во всех соседних странах разоренного Эдема, древних обиталищах всех темных сил, бедные и заблудшие южные народы взирали издалека на то, что происходит на Севере в снежной стране – и поражались: « Такая богатая страна – и почему она голодает?»
Но мертвым, как всегда, было не до живых, не до того, что там видят.
Синий Божий ангел смерти, кому служат мудрейшие на Земле, уже со свистом рассекал багровый закат городов Земли, смотря грозно на игралища темных сил.
На крыши небоскребов текла небесная кровь, а в черной тени, в запомоенных мрачных прогалах у ржавых лестниц блудницы, опьяненные сикерой и соком мака, напрасно уже завлекали проезжавших мимо мужчин-женщин в костюмах от Версаче и Гуччи. Подземное солнце ширилось и яро гудело на это. Синие ультрафиолетовые протуберанцы пронзали воду, ветер, камень, бетон, стекло, лифтовые шахты, где боялись пространства миллионы, уверенные в том, что их жизнь — хороша и истинна. Все эти гулкие лестничные марши, эти тоннели мрака, переплетье ржавых труб, сверкающие баки и газгольдеры с ядами и смертью, рукотворные пещеры колоссов создали именно они.
Они вырубали леса, посаженные Ноем, чтобы плодить новые законы и новые горы бумаги, они перекликались друг с другом через океаны мрака, за черные волны. Они плыли как рыбы, летели как птицы. До самых звезд доходило их суесловье — через радиошумы космоса и черных потухших звезд. Вся Земля стонала под ними: косная материя пузырилась и роптала, сверху опороченная живыми, а снизу – стонами миллиардов, о ком не было и не будет памяти.
Известная женщина, непрошено являвшаяся в этот другой мир, надев на шею петлю из электропровода, выбросилась на закате в окно небоскреба с пятидесятого этажа. И оторванное тело ее долго пятнило серый шершавый бетон черной кровью, покуда не упало, хлюпая, к ногам какого-то клерка, думавшего о поставке чилийской меди. Суесловье тут же собралось вокруг, защелкало вспышками, высунуло малиновые языки и — полдня миллионы обсуждали это в новостях. Забыв, что многим из них уже завтра придется проделать тот же путь – в черные тоннели, ведущие не вверх, а вниз, ходящие по планете коричневыми смерчами. Так царствовал город.
Все боги народов, все идеи, все законы, все бренды и знаки моды – идолы, и ни слышать, ни внимать не могут. Но им приносили ежедневные жертвы, из одного куска делали бога и ночной горшок, им сыпали миллиарды долларов в кинозалах и на стадионах, в кафе, офисах, где сидели как мертвецы под ртутным светом новых солнц. Так – заживо привыкали к смерти – бледные, мертвые, вялые, с синими и черными провалами вместо глаз в дырах лиц. Окованные по рукам и ногам заботами, кодексами и обязанностями меркантильной и злой цивилизации – как стальной тонкой проволокой.
Беловоротничковые юрократы несли и несли горы бумаги – многоуровневая цифирь, богатство всемирных финансовых акул, жиреющих на одних только цифрах, бумагах и курсах валют.
Всякий смертный глуп и слеп — глуп хотя бы потому, что они мыслили: «Скоро создадут лекарство от смерти». И на том миллиарды уснули, не слыша громкого смеха разумных галактик и светоносных бездн ночи.
Бег света они объявили окончательной величиной. Но во всякой формуле земных жителей небесные находили грубые ошибки. Ибо ни один рожденный даже не знал источника вод или кладязя света. Живя далеко от голубых и зеленых звезд, не видя всего величия даже твари, они думали в городах, что познали все. И, ужаснувшись своим слепым глазам, глядя только в себя, весь мир почли за пустоту. Потому пустота и поглотила их множество без остатка: так песок без следа пожирает воду.
И смех над ними гулко и далеко разносился по всей вселенной: жалок любой человек, забывший праотцов! Смеялись орбиты, кометы, луны, скалы, льды и пламени, деревья и скоты бессмысленные, покуда все на Земле кичилось и хвалилось круглые сутки.
Каждый наказывается тем, что он больше всего любит. Ибо все земное обманно, временно и фальшиво, и есть только тот мир, где Земля не кругла, а плоская, где небеса разделены на семь небес и восемь, где по воздуху ходят точно так же, как и по воде, по волне морской.
Так – обманул их опыт и ложное зрение.
В реальном же мире происходило удивительное: со звезды на звезду ходили друг к другу в гости, точно так же, как ходят в дверь. Первозданные цветы и травы благоухали и пели человеческими голосами, мертвые вещи рассказывали о забытом и древнем, умершие довременно младенцы руководили народами, неземные симфонии пели не люди, а птицы. И золотая листва тихо играла о безлюдном городе – так что всякий смертный музыкант, услышав то, уже молчал подавленно, в стыде за свою бесталанность и земную кичливость. Места древнего рая воздымались со дна океана – и на них вновь процветал папоротник и гималайская сосна.
И все это было позорищем для всех миллиардов, кто верил и верит только земному знанию: так провалилась вся ложная мудрость и искусства слепых! И это было уже смешно, а не горько – глупые речи дурака всегда вызывают смех во всех окнах и дверях.
А на высотах по прежнему стояли идолы народов – сверкали большими буквами. И даже если на все это нисходило наказание, никто этого не понимал и даже не мыслил о том. Ничтожные не сходили с телеэкранов.
Внутри же гудел черный пламень, пляска черных пламён, радуясь новому топливу – глупым, новым поленьям.
Всякий живой копил горящие угли себе на голову.
3
Дом же в лесу стоял нерушимо и неколебимо. Сама синяя даль вечности укрывала его обитателей, ничего не знавших о мире, живших простой жизнью древней глуши.
Все, кто ни приезжал изредка сюда, удивлялись: « Живете тут как лешие! Отстали от жизни!»
Обитатели же только недоуменно пожимали плечами на это: им непонятен был новый язык, новый телевизор, новое радио, новая речь. Они знали, что сама истина уже смешала языки на Земле – и говорившие на одном языке и наречии уже перестали понимать друг друга. И это тоже защищало дом от скверны мира, ужаса и мрака, несущегося на крестьян из городов.
Где-то шли цунами, землетрясения, вулканы, ураганы, лавины, наводнения, а в лесах все так же стучал дятел, прыгали по хвойным тропам белки. Все так же тихо текла черная лесная речка, все так же, как и в древности, молча росла черника и грузди, все так же медленно бродил клубами белый туман в ельниках осенним мерцающим утром.
Сосны же стояли как храмы, неоскверненные людьми, — и не раз простецы воздевали руки в этих храмах: «Дивно! Чудно! Древне и чисто!» Они благодарили за тишину, покой, свет, радость, праздник света. Ибо лучше тишины нет никакого языка на этом свете.
А терновый куст больше не разговаривал ни с кем из землян. Не слыхать более было и о пророках, святые все давно поумирали. Не происходило нигде больше никаких чудес, никто не возвращался с того света – так жили города…
Но не село. Тут в почерневшем доме ежедневно происходило какое-нибудь чудо. Некая старушка то и дело ночевала в старой пустой церкви. Разговаривала с мертвыми: все считали ее за сумасшедшую. « Божий одуванчик!» Редакторы газет и журналов, люди города до мозга костей, смеялись, разбирая ее каракули – бабка не знала ни синтаксиса, ни орфографии и не умела печатать на машинке. А это всегда настораживает всех слепорожденных.
Таким образом, письма мертвецов не доходили до живущих – пылились в архивах редакций, горели в мусорных ящиках: что может малограмотная старуха?
Связь вечности и времени так была полностью разорвана: гробы по-прежнему катились по отполированным роликам в крематории, так же привинчивали урны в колумбариях, все так же потрошили сизые трупы в моргах – и духи слетались отовсюду питаться этим мерзким благоуханием. Все так же зыбился дорогой гранит и черный мрамор там, где испокон века знали только траву и чернозем.
Все так же никто не знал, копая старую могилу, почему за сто лет черный труп не сгнил – а раздулся, опух. Почему по ночам иногда ходят синие огни, почему сами собой переползают с места на место огромные камни: загадок для полуверующих атеистов всегда слишком много. Поэтому о нонсенсах никто не вспоминал, предпочитали забыть, роясь в бумагах и статейках о суете, о мимолетном.
Зато все верили в 13-ое число, в черную кошку, в значки на ладонях, в кофейную гущу, свои науки и свои знания, в какой-то космический разум.
Разве чудо, что хлеб режется ножом, а вода падет вниз?
Но вот пришли и вокруг села новые времена: вымирали целые села и деревни – от нищеты, от безработицы, от хамства. Непонятные темные новые люди говорили непонятные речи. Непонятные новые чиновники выписывали непонятные новые деньги, на которые ничего нельзя было купить.
Всемирные деисты ругали уже бывший атеизм, но сами были – еретики, дурни, владеющие печатью и словом, не благословленные небом. Но они проповедовали свое дикое и глупое учение всем народам с экранов, со страниц газет – и все народы стали тоже еретики, верующие в тех же идолов на высотах, в те же самые мерзости, которым поклонялись и допотопные кровавые монстры – смытые водой с Земли за свою ложную и бесчеловечную веру.
И поэтому никто, никто уже более не видел и не слышал Бога.
Непонятные книги суетным толпам рассказывали только о толстосумах, убийцах, грабителях, опустошителях, сребролюбцах, угрюмых, проклятых, растлителях, скоробогачах в городах – жиреющих на смерти страны. Весь этот кровавый фарш нового времени блестел с ярких плакатиков на черных гнилых деревянных заборах, щелкал на ветру. Чиновники опять обещали сытую жизнь.
Но сами они никогдане появлялись здесь – они пришли бы в ужас, повесились, если бы вдруг стали жить бедно, как и все, вот в этом доме. Непонятные песни гремели в клубе. Но что было крестьянам до этого?
Крестьяне уже давно прожили жизнь и обитали только в молчаливой вечности.
Потом ветер мира нес по грязи и лужам портреты чиновников, олигархов, их депутатов, всех растлителей народов, окуная их в жирную грязь забвения – туда, где им обеспечено вакантное место.
А на столах простецов все так же парила картошка, зеленел лук и блистала редиска с грядки. В солонке лежала та же крупнозернистая соль. Старый чугунный чайник, не боящийся времени, свидетель иной святой России, пыхтел как хозяин, весело подмигивая обитателям дома, болтая с ними о том, о сем.
Истинная Россия вокруг полностью отмирала, окончательно отходила в океан прошлого, прощально гудя колоколом. Дамы и господа махали шапочками, котелками, пуховыми платками. Труба дымила черным углем, туман и море времени скрывали все больше и больше леера и мачты – яркий рассвет слепил оставшихся на берегу: корабль России уходил прямо в солнце.
А на местах когда-то многолюдных сел цвел Иван-чай, ромашка покрывала сгнившие срубы.
Журавль у колодца еще держался, одиноко скрипел на ветру, скорбя о лучших людях.
Старые сосны давно были спилены на дрова, белоколонная усадьба князя — разобрана на стены безлюдной фабрики, некому уже было работать на ней, все умерли. Кости владельцев поместий и их слуг давно гнили в земле – или стали основанием для многоэтажек в городе.
И никто не подозревал в этих многоэтажках, отчего всегда в их квартирах витает беда, несчастье, ночные ужасы и проклятие – к которому привыкли. Проклятые дети проклятых дедов учились, получали хорошее образование, занимали высокие места – и вся страна не знала, почему любое дело и начинание всегда заканчивается позором и разорением, ужасом для потомков. Никто уже не мог разобраться во всем этом, хотя заседания и собрания, прокорм все более наглеющих чиновников, стоили страшных денег.
Искали спасения и смысла, спорили, воевали друг с другом, писали эвересты новых документов и бумаг — и не обретали ни начала, ни конца.
И чем больше они в городах совещались, писали, шумели, законотворчествовали и трудились напоказ – тем больше истощалась страна, стонала от них вся земля.
4
Умирали рыбы и птицы, весна стала похожа на зиму, а лето на осень. Час бежал как минута, год как месяц, и никто из них не знал, почему спешит время. Но все проклятые не понимали, почему они никогда ничего не успевают: при множестве дел и забот не оберешься греха. Все трудящиеся синекуры напрасно трудятся.
Тех же, кто говорил им об этом, сбрасывали на дно города. Так город пожирал собственных детей.
Номерные могилы заполоняли поля. Цифры, указанные на них, были просто цифры – одинаковые черные жучки логарифмическими рядами в больших черных томах смерти, на базальтовых полках в архивах загробного мира.
Тяжелая книга летела над миром ночами: всякий, кто пытался ее прочесть, тут же сходил с ума, умирал от страха, тоски и ужаса – Знание.
А вверху парил безлюдный город, внизу горел кострами муравейник, собирая многочисленные головы, руки и внутренности на перекрестках шоссе. Черная птица с когтистой секирой стояла над светофорами городов. Ловя души сетью, складывая их в черный мешок.
Псы с красными ртами и человеческим телом также ловили спешащих жучков на всех выходах и входах.
Вся Земля есть кладбище. Нет ни одного свободного места от костей. И всякий пляс и веселье стали плясом и весельем на костях – тем более в этой стране, где людей держат за скотов, за горшки для помоев и плевков.
Поэтому этому всему суждено выгореть вглубь на много метров: но кто думал об этом?
Упорно железные псы созидали города до неба, грызли камень железными зубами.
Все человеческие труды, годы, заповеди, привычки, имена, стремления, надежды – безумие и смех даже детей. Любому человеку мало и всей земли: всех ее богатств, роскоши, кладовых. Поэтому крестьяне не тянули свои руки ни к чему: все равно не насытишься.
Обо всем этом пытались писать и говорить во всеуслышанье, но никто даже в одном государстве уже не понимал друг друга. Слишком много стало слов, путей, знаков, свобод, рвений, цифр, газет и истин. И всякий стоял потерянный, опустивший руки: горе веку и всем живущим в нем!
Именитое, новое, роскошное – ничто уже не радовало пресытившийся взор, а звезды были так же далеки и холодны. Яблоки и груши в супермаркете радовали только глаз – а внутри были таковы же, как и люди: безвкусные, пустые, поддельные, ненастоящие, ватные, как бумага – только выбросить, морщась.
Большие деньги уже никого не радовали: радость вовсе никому не была уже знакома. Она уходила от Земли как пар воды ночью. О радости уже даже никто и говорил, никто ее не искал, никто о ней не писал. Радость и покой – есть счастье, не доступное в городе. Поэтому вкус, осязание, цвет, звуки – все стало всем мерзким, хуже выгребной ямы, помоев – как рот сварливой жены. Современной женщины города.
Все всем опротивело — и это стало самой явной приметой конца.
Опротивела любовь: можно ли сразу любить трех женщин или трех мужчин? Опротивело обычное, легкодоступное, называемое счастливым мгновеньем – всего лишь мгновеньем. Опротивели модные бренды: автомобили, квартиры, дома, блузки, курорты, вина, сигареты…
Хорошо быть в такие времена тому, кто вычеркнут из города, из жизни, забыт и забвен всеми далеко на берегу, смотря, как волны моря перемешивают тину, обломки, прах, трупы, пену, морских чудовищ.
Так и дом, стоявший в лесах, светил всему миру ночами как маяк. Но кому тут было светить: пути народов пролегали далеко. Поэтому крестьяне и молчали о том, что знали. Истинные знания закрыты для вульгарного всечеловеческого христианства – есть громкое и шумящее ложное человеколюбие, гуманизм — благие намерения по пути в вечный огонь. Немного дает радости и все знание, если оно всякого обрекает на полное одиночество.
Поэтому все, кто знал, бежали в пустыни, леса, в горные щели и снега в ужасе — и всеобщее наказание там миновало их. Так закрыто было небо.
Нижний же, задавленный обязанностями мир в паутине вещей всем одинаково омерзел, вызывал рвоту, эпилепсию и буйное беснование от голоногих телеящериц, выползающих по вечерам во всякий дом.
Бесновались мужья, видя беснующихся современных жен – всякая требовала: « Отдай мне причитающееся!»
Юристы, оправдывающие виновных и заболтавшие народы, были все сообщники ненасытных стяжателей, официальных убийц, помощники притеснителей голодных — процветающих дневных воров, белых воротничков. Князья же и правители были ничем не лучше диких горных дьяволов – но каждый чувствовал себя богом на Земле: « Несите мне дары и яства!»
Треть жизни они потратили на бесполезную работу, которая никому была не нужна, треть – на сон, а оставшуюся треть, жалкую шагреневую кожу – на телевизор, сплетни, развлечения, моды, шоу и на поездки на моря и океаны, на лежание в шезлонге. И после них грядущему не осталось ничего: ни полей, ни свежих лесов, ни чистых рек и озер – все это они высосали, сьели и выпили.
И так как все стали свободными, богами, никто никому не подчинялся, никто никого не слушал и не слышал. Земля же терпела все это только для того, чтобы однажды, в одну секунду, перевернуться как пласт на болоте – и поглотить жужжащую гордыню насекомых ничтожеств.
Крестьяне же выращивали в тяжком труде хлеб свой. Но осенью приезжали из города лихоимцы и любостяжатели на «Вольво» — забирали все их труды за бесценок. А потом продавали им же их хлеб втридесятеро. И притом же эти богатеи еще и жаловались: « Мы не смогли обобрать этих дурней до копейки! Еще осталось у них».
Всемирные лихоимцы богатели, расширялись по всей планете – никуда не было деться отармии их соглядатаев и шпионов. От их паутины, от их многоячеистого словоблудия с экранов, от страниц всех тех, кто помогает лихоимцам в офисах — работая намедленное уничтожение тех, кто их кормит и поит.
Они же, эти пожиратели, жили без бед и несчастий, долго и сыто – и считали притом это благоволением неба. А простецов называли презрительно: «Скот! Вонючие навозники!» И весь народ вокруг них был для них – быдло.
Все народы, работавшие на них и умиравшие на работе, шли к этим капиталистам, к финансовым олигархам и воротилам, правителям Земли, наобещавшим им райскую жизнь, и требовали: « Дайте же нам теперь, сейчас много мяса, шоколада, тортов, крабов, конфет, коньяков, мармеладных зайцев, которые вы едите, мы видели по телевизору».
А те отвечали им: «У нас ничего нет. Мы сами стали бедные. Видите ведь: Земля не дает больше хлеба, а небо дождя. Все реки и озера высохли, и мы больше ничего не можем дать вам».
Они с почерневшими лицами уныло побрели все вон. Бросали на дорогу деньги, золото, драгоценности, дорогие одежды: «Кто даст нам воды? Простой воды! Мы бежали, думали, что это лужа – а там опять проклятое золото!»
Привыкшие с детства много есть и пить, они пили кровь трупов и пожирали их вонючее мясо: «Надо ведь что-то есть! Иначе ведь мы умрем». Черная язва покрывала их тела, они гнили заживо: воздаяние и справедливость наконец, явно и видимо всем, посетили Землю. Кто что заработал – тот то теперь и получал, не как в старые времена.
Все дороги и распутья воссмердели от мертвецов. Голодные прожорливые ротвейлеры и пинчеры умерших, одичав, пожирали мясо своих хозяев.
В городах, в подьездах, по обглоданным черным черепам шуршали крысы, все стенало и плакало, и никто больше не осмеливался показывать на улице свою наготу.
Оставшиеся живые рвали волосы: « О, проклятое земное знание, куда ты нас завело?»
Увидев крестьян, осиянных светом, вдали, они с черными лицами застонали: «Это – крестьяне. Наши враги. Те самые, кого мы презирали и над кем смеялись! При жизни много же зла мы им сделали! О горе, вечное горе нам!».
А светящиеся люди уходили от них все выше и выше, покуда не скрылись в нестерпимом свете, который жег глаза злым, лукавым, злопамятным, скандальным, притеснителям убогих.
Так – кончалось время. Наступала восьмая эпоха.
Блуждающие звезды великих городов свергались с дымом и шумом. Даже святые, видя это, страшились и дрожали: они и не знали, какова мощь и сила справедливости и истины. Видя издали это падение, они говорили: «Некому больше нас будет грабить и обирать. Мы кормили и одевали их, никогда не зная от них благодарности. Они всегда издевались, грабили нас, обманывая, и превозносились над нами. Считали нас за пыль, за ничто. Благодарим Тебя, что Ты спас нас от их царя и укрыл в этой забытой всеми деревне, в глуши. В сих лесах по Своей милости, а не по нашим заслугам».
Дым же от мучения злых поднимался во веки веков.
А время этого мира уходило все дальше и дальше.
Мелькнула и обратилась вновь в камень пирамида Хеопса. Затем колонны Стоунхенджа воздали славу небу, как и в древности – и вернулись на свое место в горах. Исчезли следы тигра и волка, некого более было страшиться – все вернулось к древнему молчанию.
И вновь пар поднимался к облакам по лицу всей Земли – не нужно было больше ни дождей, ни зноя. Вновь чистая, безлюдная Земля приносила простецам урожай сам-триста: из одного посеянного зерна вырастал целый центнер. Деревья плодоносили и цвели каждый месяц. Тучные пастбища бывших пустынь дали сень и приют новым людям – потомкам простецов. И никто из них больше уже не вспоминал ни о лесоповале, ни о нищете, ни о лихоимцах на «Вольво».
Выходя из леса на место некогда славных городов, они находили там в свежей хвое большие белые грибы и огромную землянику. Кедр и кипарис, сосна и полярная ива цвели вместе, ива цвели вместе, тропические индийские и русские птицы слетелись петь рядом. Не выходил из леса более вепрь или волк. И за отсутствием воров, лукавцев, прожигателей чужого – не нужны стали ни замки, ни паспорта, ни деньги, ни доверенности, ни бумаги, ни знакомства. Не нужно было больше трудиться на мироедов, на тысячи, попиравших убогих и кротких. Никого не нужно было бояться, никто более не мошенничал, не обманывал доверявших ближнему – ни на улицах, ни в домах: всех до единого служащих смерти и погибели забрала навеки тьма и смерть. Ни одного из них не стало на всей Земле.
Вновь великая тишина лесов царила по всей России. Железные дороги и шоссе зарастали травой, огромными, невиданными деревьями, называемые секвойя и тис. В реках чрезвычайно умножилась рыба — и такая, какую отродясь здесь не видели. Ночь стала светла как день, а день не убивал более яростью солнца, обжигающего глаза. Обезлюдевшая Земля вся нежилась и отдыхала от зла, от нечестивых и наглых, от бетона и железа, от бумаги и проводов, от криков сребролюбцев о деньгах и товарах, от хитрых глазенок на рынках и перекрестках.
Так окончились времена и наступили времена времен.
Не наступило никакое будущее, о котором так громко некогда мечтали нечестивые. Но настало то, о чем никто и не мыслил. И не подозревал.
По ночам большие далекие галактики ниспускались с неба посмотреть на новую дивную планету и на ее простецов. Яркий радужный свет нового неба играл в лесах, в чистых, прозрачных реках и озерах. И каждый мог сказать: « Хорошо весьма!»
А что же он?
Теперь — он стоит в сельской музыкальной школе.
Просто – старый белый рояль. Просто старый белый рояль.
© Copyright: Роман Эссс
Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его.
Бытие. 5. 23 – 24.
Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон.
Я увожу к погибшим поколеньям…
Данте
Ему уже сто сорок лет. Знавал он когда-то и лучшие, счастливые времена: начиная с того времени, как научился понимать. Разговаривал он со многими прославленными – с Анненским, еще молодым, не очень известным, видел он и Книппер-Чехову, и Комиссаржевскую, и Станиславского и молодую Ахматову.
Потом он переехал в тот дом, где некоторое время обитал Розанов. О нем Розанов написал в своем небольшом воспоминании.
Да, прекрасное, возвышенное, ровное, несуетное, беседное это было время. Никогда и нигде оно на Земле больше не повторится: нет и нигде не будет таких людей.
Дама, знавшая его в доме Розанова, получила от него множество дивных минут блаженства, понимания и счастья, хотя обычно он молчал, зная, что обычная человеческая речь, разговоры, споры, метафоры, ассонансы, вводные, недомолвки, намеки, центоны – есть только изреченная, привычная ложь. Тот же, кто говорит то, что мыслит, обретается в желтых домах.
Нет, впрочем, с дамой-то он всегда был откровенен — она не боялась заглядывать в бездну, в тайники его души, которые он и сам страшился открывать смертным, суетным существам: они всегда, каждую секунду, были заняты только мимолетным, выгодным, пищевым, земным. Да и все равно бы не послушали – стали плоть, земля. Безводная, каменистая почва.
«Не радуйся множеству нечестивых, хотя бы их число на Земле было как песок морской». А эту фразу он однажды услышал от гостя, запротоколировал ее – и всегда с тех пор жил по ней.
С тех пор, с лет своей юности (о!) он видел тысячи, десятки тысяч самых разных нечестивых. Тех, кто только зря увидел солнце. «Лучше бы им никогда не родиться!» — говорил гость, а потом долго молчал, глядя на свою vis – а — vis, тоненькую, стройную рыженькую, одетую тогда в серый сак, покрытый капельками стаявших снежинок.
«Да, дорогая, дорогая, а наше время уходит, кончается!» — продолжил гость, с грустью смотря в окно. Белые, уютные двухэтажные домики Замоскворечья с газовыми фонарями плыли вдаль, уводили ум, сердце, мечту в необозримую заснеженную Россию на Востоке. Там гуляла уже ночь, мрак. Страна немая, огромная, безлюдная, тянущаяся до самого Северного полюса.
Там, в точке центра, некогда сияла райская страна – Гиперборея, гора, недоступная даже умам Платона или Геродота.
Но немногие гипербореяне все-таки иногда говорили с ним: люди необыкновенного ума, покоя, света, видной наружности. Крепкие и душой, и духом, и телом, ясные умом и мечтой – чего нет у обычных землян. Эти люди знали тайну своей крови- те, кто вели человечество к голубому сиянию Плеяд: лучшие всегда смотрят на звезды. Эти славные люди и держали Россию, истинную Россию – покойную, нешумную, счастливую. Которой многие в мире завидовали – и потому злились, мечтая ее уничтожить, овладеть и ею, чтобы практичное человечество более не смотрело на звезды.
Ночами он любовался Плеядами, завидуя тем, кто там уже живет – не он же, со своим громоздким телом, прижатым тяготением только к этому маленькому земному шару.
Еще он слышал стихи, рассказы, песни гипербореян, первой цивилизации, людей легендарных, славных на Земле – титанов до Потопа, о которых говорит Писание.
Именно они основали первое поселение там, где теперь дымилась в морозе Москва. Тогда же, в гиперборейские времена, вся страна, которую впоследствии описал Нестор, представляла собой только почти безлюдные хвойные и лиственные леса без конца и края, болота, речки, холмы – лес солнца до горизонта, где везли и несли на руках сноп пшеницы, подаренной на Крите ахейцами. Дар негреческому богу Аполлону, покровителю искусств.
По всей земле же тогда был один язык и одно наречие: по лицу всей Земли все понимали друг друга, не было чужих.
Все это знало, видело, помнило только его тело, его гены – не ум, не сердце, не душа, не память. Ему рассказывали, что под полярным сиянием эскимосам, полярным исследователям иногда еще видна эта сказочная страна, не от мира сего, Беловодье, гора Меру, центр мира, град Китеж, город сказок. Чтобы люди на Земле никогда не забывали, кем они могли бы стать.
Ах, но как же прекрасно, чудесно, розово и сине, бархатно и мягко, снежно, морозно, далеко, ясно было в тот тихий зимний день в Москве!
А потом — на улицах ревело, вспыхивало багровым, стучал вдалеке за окнами пулемет, бежали черные точки – тоже земля, прах и плоть.
Затем – пришли нечестивые, кричали, требовали, одетые в черную кожу, говорили такие слова, каких он раньше никогда не слышал. И дама, которую он знал, навсегда пропала.
Потом для него начались плохие, жуткие времена: в комнатах зимой не топили, стало сыро, холодно, темно, жутко. Больше всего жутко не от холода, а от неизвестности. Властвующей во всех углах неизбежности, ночи, которая почему-то у людей почему-то называется судьбой: «У него такая судьба!»
Он стал жить в какой-то большой квартире: с радио, фикусом, попугаем, с портупеей на стене и маузером.
Никогда в этой квартире он не слышал больше разговоров о галактиках и звездах, ни об искусстве, ни о стихах, ни о первочеловечестве на Земле, ни о судьбе славян или германцев.
«Аристократ проклятый!» — называли его теперь.
Ночами он видел багровый и черный пламень, сверлящий миллионы лет базальт и гранит, всегда холодный от России, уравновешивающей в мире нижний огонь – и своими морозами, и водами замерзшими превыше небес. Он благодарил в такие минуты небо за этот мороз, за холода, за снега, видимые в окна в темные ночи – звезды отвернулись от нового, невиданного ужаса, новой страны на Земле. И только белые девы метели и снега танцевали в полях, лесах, на крышах домов, на водосточных трубах.
Россия поднялась, он думал, выше остальных стран на три тысячи метров – заоблачная, неземная, снежная страна: страна, откуда все бежит от холода и мороза, от нищеты, от бедной и скудной почвы, от безлюдья и смерти. Бежит на юг, где извечно копились и копятся все нечестивые Земли – дикие и жестокие народы в своих странах и своих цивилизациях.
Только сильные духом выживают в нищете, морозе и вечном холоде, который зовется Россией-Гипербореей.
Поэтому в России, думал он, так хорошо умирать: ибо день смерти – главный день всякого на земле. Второе рождение – или вторая смерть, которой нет. И поэтому есть то, что гораздо хуже смерти – бытие в небытии. Точнее говоря, забвение, серая, гулкая долина смертной тени, не имеющая ни границ, ни начала, ни конца – как душа гордого, думающего, что он знает все лучше других.
Боятся ведь не смерти – боятся темного гроба, тишины, капели воды в щели досок. Или, пуще того, боятся сгореть в огне, утонуть, вечного погружения во тьму вод: а вдруг я, мертвый, все буду видеть и чувствовать? Такие мысли всегда посещают живущих только досужими разговорами.
Смерть для них – тайна, загадка, ребус, который так никогда и не будет разгадан: жить еще до-олго!
Страшился ли он смерти? Но не страшней ли смерти – жизнь? Нет ничего страшнее неизвестности, темных углов, беззвездной ночи во льдах, где неоткуда взять огонька. Страшно, когда ты, например, видишь: ходит в ночном коридоре сам по себе плащ, прихорашивается меж двумя зеркалами. А зеркала уводят в неизвестность, в темные залы князей тьмы.
Страшно, жутко жить в России! Здесь всегда никто никого не замечает. Поэтому после того, как он поселился в комнате с фикусом, он больше не видел в окнах никого на улице – там всюду ходили мертвецы. Все – мертвые, которым мешали живые.
Ранее, до того, как он попал в дом с фикусом, он видел многолюдные собрания и концерты радостных мертвецов. Аплодировали, бросали букеты, но трупный запах нового времени сизовел и марил. Самое страшное, что никто не собирался этих аплодирующих мертвецов хоронить.
Потом он видел и детей мертвецов – видел, кем они становились, когда вырастали, учились в институтах, кого они воспитывали. Какое время и какую страну вокруг себя строили, руководя и направляя.
Но более всего он не любил дни, когда мертвые хоронили своих мертвецов, устраивали пышные поминки. Окружающие его существа и не помышляли, и не предполагали, сидя за столами и произнося панегирики уже лежащим под землей, что уже совсем скоро внезапно воссияет среди ночи солнце и луна – трижды в день. Что с дерева будет капать кровь, камень даст голос свой и все народы поколеблются. Что тогда, в эти скорые времена, море извергнет рыб, будет издавать ночью голос, неведомый для многих — и все услышат этот голос — тех, кого сожрала тьма и забвение мира.
Он знал, смотря на выпивающих, чавкающих и закусывающих, что уже во всем мире все друзья ополчились друг против друга, что все это – показушная дружба врагов, что на Земле сокрылся ум и разум удалился в свое хранилище.
Пьяная балерина из Большого театра в такие поминки вертела перед нечестивыми ногой. Сидя в черном, траурном, вся власть и жрущие кричали, махали вилками, хлопали: «Браво! Браво!» — несмотря даже на то, что из комнат еще не выветрился жуткий зеленый трупный запах.
И он, отворачиваясь, думал тогда о будущем: когда большие книги раскроются перед лицом тверди, и когда однолетние младенцы заговорят своими голосами, когда беременные женщины будут рождать недозрелых младенцев через три или четыре месяца, и они вдруг укрепятся.
Он смотрел за пропасти и стремнины, куда в движение серых клубов тьмы сводило мертвых: узкий мост, истоптанный миллиардами ног, вел на крутизну, где по правую сторону гудел огонь, а по левую — дымилась жуткая черная вода без отражений, неподвижная, как металл. И та тропа была такая узкая – как одна ступня человека. А люди все шли и шли туда, и никакой памяти от них на Земле уже не оставалось. После поминок с похмелья никто не мог вспомнить, кого же вчера так пышно поминали?
Он спрашивал у метели: «Куда уходят люди?» И она отвечала ему: «Зев преисподней сожрал всех их, ибо во время жизни они не помышляли о жизни. Они не помышляли о борьбе, и потому конец их законен».
А в широких коридорах дворянского особняка теперь мотались, держась за стены красными ногтями, две пьяные ****чонки-певички, лауреатки Госпремий. Голые, с кожей в пупырышках, плясали меж салатов и супов. Хозяин, помахивая серым маузером, благосклонно смотрел на них, подергивая рыжей козлиной бородой, — и не подозревая, что всего-то через месяц и сам будет уже убит в затылок в тех же самых подвалах, где он некогда расстреливал классовых врагов. Глуша человеческой кровью из кружки, прямо с полу, бледные попреки бессильной совести: ведь кто они, его жертвы, были ему? Обирая потом при обыске в домах и квартирах убитых золото и драгоценности.
****чонки стучали кулачками, куксились, глядя на хозяина, нетерпеливо сучили кошачьими коготками: «Не хотим больше нашу Веру в правлении!» И наутро эта самая Вера уже не сидела в правлении – она сидела в подвалах.
Так – обосновывалась и строилась вся эта новая, крикливая, шумная, толпливая страна, в которой он вынужден был теперь обитать до последнего дня. Таковы стали все ее известные и популярные, их дети, дети их детей, дети детей детей – строящие свои карьеры только на уничтожении и попрании всех, кто не имеет влиятельных знакомств.
Так, именно так, основалась вся эта новая жизнь, все новые ее люди: «Умрите вы все сегодня, а я как-нибудь потом!» Такова — стала вся Москва, ее законы и установления, ее хозяева – и большие, и малые. Поэтому он терпеть не мог никаких трансляций с эстрады или из театров: новые певцы и певички, артисты, лауреаты, признанные, осыпанные цветами были все таковы – о них говорили, что выползли петь наверх «по блату».
Он-то знал, какова вечная цена такой известности и этих букетов, аплодисментов – метель показывала ему всех их, их истинную сущность за личиной.
****чонки стучали по нему кулаками: какую пользу приносит на Земле смирение и кротость? Только – синяки, кровоподтеки, забвение, посмеяние от тех, кто владеет этой жизнью, наслаждается ее благами, притесняя молчаливых и несуетных.
Только ночами, когда метель качала фонари, когда ни одна звезда не смотрела вниз, жизнь за окном становилась похожа на жизнь – на ту давнюю, упоминать о которой было запрещено, смертельно опасно. Ту жизнь, когда еще розовело и синело на куполах, на двухэтажных каменных домиках, на извозчиках, на прохожих, на апельсинах в окнах магазинов, на разносчиках с баранками, квасом, на господах в бобровых и собольих шапках и на синих и белых ридикюлях дам в манто и горжетках, зябко постукивающих каблучками на льду…
А в ночи ворочалась, стенала, сетовала Россия во сне, который ей навязали. Да, Россия: снега, пурга, волки, леса, ледяные реки, где на черном дне спят непохороненные живые, смотря замерзшими глазами вверх, сквозь голубой лед, ища луны.
Да, Россия: где, если выходишь в лесах на огонек, непременно попадаешь в какой-то черный дом, где странная, бледная дева точит нож, смотрит невидяще вдаль через оконце, через свечу, охлаждая раскаленное лезвие снегом.
Да, Россия: где в серых пасмурных городах бродят нынче серые мертвецы с пеленой смерти в глазах, в которых ничего не отражено.
Россия – загробная страна. Тут нельзя жить, но хорошо и весело помирать простому человеку, ибо какой прок просить помощи у мертвецов?
Россия – страна одних снегов и бесконечных кладбищ. Здесь все – сама вечность, оцепенение, незыблемое, недвижное, где новый век не зря останавливается, опускает руки – и бежит вон, подальше. Лед, снег, мороз, пурга, тьма, долы и черные, нищие селения с подслеповатыми оконцами в снегу – в мареве, в мираже метели.
И вот уже, когда радио голосом Молотова наконец объявило заслуженное всеми наказание свыше, он, в отличие от ужаса миллионов, обрадовался. Ибо никогда ранняя смерть всякого праведного не бывает безвременной – как и слишком поздняя нечестивых. Он прекрасно понимал этот сложный, вечный закон, призывая последнее время этой гремящей, безжалостной и крикливой стране.
Рушились в огне и вое железа башни гордых, тысячи придавливало ими, огонь и меч царствовал и на земле, и на небе. И если свистело сверху и вдали грохотало, он знал: это корчатся, гибнут, горят заживо нечестивые. Или просто забирают еще не испорченные обществом души — чтобы не осквернились от проклятых, владеющих Землей.
А что потом? Потом он ехал вместе со всеми на Восток, трясясь в «Столыпине». Он все же был аристократ, дворянин. И потому угрюмо молчал, глядя, как выли и роптали, кричали друг на друга изнеженные новые москвичи: они впервые увидели, как живет Россия. Морщились от картошки в мундире, от крупнозернистой соли, которой кормила Москва народ. Москвичи не привыкли спать на досках – стелили на доски чистые простыни. И народ, лишенный всего этого новой системой, отвыкший от уюта за двадцать лет, удивленно взирал на белые простыни – именно Москва свела всю Россию вновь в девятый век, отбирая у народов все только для себя.
Он стал жить в большой зале, вместе с несколькими столичными – в деревянном двухэтажном доме, только что построенном между рекой и железной дорогой, в сосновом лесу. Неподалеку было кладбище, где хоронили простых россиян, приехавших из нищих деревень – тех, кто строил порт на Каме, в лютые холода, на обжигающем ветру.
Москвичи все поустраивались на должности: кто учетчиком, кто мастером, кто кладовщиком. Сидели при жарких буржуйках, ели спецпайки, масло, белый хлеб, халву, колбасу, сахар, курили «Казбек», а не махорку, покупали за мыло и иголки горы вкусной и питательной еды. Ни один из них не нес заслуженного наказания и воздаяния – они широко и вольготно жили здесь, тут, сейчас, на Земле: как и прежде, жили сыто, весело, при скрипе патефона — в комфорте, в тепле и неге, как боги всего и вся, всей России.
А на кладбище хоронили, хоронили, хоронили в мерзлую, стылую глину простых россиян: в лаптях, в онучах, в зипунах, отощавших, туберкулезных, синих — настоящие скелеты. На их место по указу Москвы привозили новых и новых: он видел множество самых разных лиц, национальностей. Читал вместе со всеми газеты, слышал голос Левитана, смотрел на большую карту, где красные флажки все больше продвигались к Западу. Вдыхал сладкий запах махорки. С изумлением видел у всех глубинных россиян вместо спичек древнее кресало – Россия, настоящая Россия, была опущена Москвой чуть не в каменный век! Он слышал разговоры, вздохи, стоны, жалобы простых русских, удмуртов, татар, марийцев, узбеков, эстонцев, финнов, немцев, латышей о угле, о лопатах, о ломах, о картошке, о кубометрах и дневной норме выработки… Но – их стоны никто, никто не слышал.
Были разговоры об укропе, о большом урожае яблок, о трех стерлядках, выловленных сегодня в реке. Впрочем, это уже потом – когда сняли карту со стены.
Лета сменяли зимы, старел и бревенчатый двухэтажный дом, все больше чернея. Молодые танцовшицы в ситцевых и крепдешиновых платьях становились колченогими старухами в коричневых простых чулках. Лица морщились, дрябли – казалось, все горе мира, все его болезни и страдания прячутся в этих морщинах.
Провинция же была настолько дальняя и глухая, что никто в современности и не подозревал, что она вообще есть, что бывают на свете такие места, где время остановилось в недоумении, где все неизменно, неизбывно – места и долы, забытые и телеоператорами, и проезжими, и всем человечеством, мечтающем только о море, песочке, солнце и бикини.
В этой провинции вовсе не нужна была современность, настоящее, ибо здесь-то все знали истинную, вечную цену простой, бедной и незатейливой жизни. Здесь все прекрасно интуитивно сознавали, что Адаму, всякому Адаму, всякому смертному положено в поте лица, в ужасах и страданиях, а не в неге и холе, среди волчцов и терний сеять, копать картошку, поливать в жары репу и капусту из лейки. А в зимы, длящиеся по полгода, знать, что в магазине на прилавке нет ничего, кроме соли, макарон и прогорклого масла – все увезено и съедено цивилизацией. Здесь-то все прекрасно знали, что всякий смертный в этой стране просто не достоин видеть на столе то, от чегоотказывался Адам и что так любил Каин – первый сытый и превозносящийся над всеми на Земле.
Здесь знали, что вся Земля была, есть и будет проклята до скончания времен – из-за славных, гордых, кичащихся, обирающих других, живущих на их горе, нищете и вздохах. И, поскольку Земля проклята, здесь не восторгались красотами природы, даже не замечали их, а только работали, работали и работали. Днем – на государство и веселых прожигателей жизни в городах, вечером на себя. Копали землю, унавоживали ее — и собирали потом с нее скудный урожай скудной земли. Под холодным и равнодушным серым небом.
Эти кроткие, о которых сказано, что только они наследуют Землю – не царство небесное – в глубине души знали от своих верующих предков, что тяжкий труд на земле с лопатой не дает времени для греха, для праздности, для развлечений. Как у всех остальных, у остального человечества – все человечество заполняет щели неверия, проклятия, отвержения в своих черных и каменных душах развлечением, пустотой, сплетней. Смертную скуку и тоску.
И потому никто из этих простых трудяг не стремился ни в Москву, ни в ее квартиры, ни в ее заваленные едой и товарами магазины, где царствует обжорство и сребролюбие – смертные грехи, наполнители и князья ада. Ведь сребролюбие – начало всех грехов, самый верный путь в тартар – гораздо более худшее место, чем сам ад.
Он слушал разговоры и беседы этих простецов, и постепенно перед ним разворачивалась вся настоящая Россия, не описанная столичными знаменитостями – та Россия, которой так страшатся и потому так презирают все избалованные и сытые, захватившие все лучшее на планете – как будто они одни живут на Земле.
Он благодарил небо, что попал сюда: он и не подозревал, что есть еще на свете кроткие, чистые сердцем, милостивые, забытые и не замечаемые всеми, гонимые, обиженные и осмеянные наглыми. Последние избранники, сказано и предречено, будут сражаться с самим сатаной и миллиардами его сытых и многословных слуг. И будут голодать, холодать и страдать все больше и больше.
Они же, эти столпы и основы жизни, никогда не думали о себе высоко: работали, молились дома у старых икон, так как в округе все церкви были обезображены, превращены Москвой и ее новыми хозяевами — явно не россиянами, кому было мерзко все, что в России — в очистные, в хранилища удобрений, в свинарники или склады. Крестьяне вздыхали обо всем этом, но были неграмотны, не могли выразить всю свою боль в словах: ни одному праведнику не нравится вся нынешняя жизнь, ее привычные, приглядевшиеся всем основы и постулаты.
А утром крестьяне снова ползли в валенках в тайгу, в мрачные ельники и мшары по глубоким сугробам. И работали, валили лес. При добавочном, титаническом грузе земли, всей земли, всех ее сытых на своих хрупких женских плечах – дабы мир и небо не рухнули.
А этот мир только что и делал что веселился, кутил, плясал, праздновал победу. Мир всегда только тем и занят, что ворует, лжет, бездельничает, создавая видимость труда в бумагах и в разговорах, на заседаниях, сессиях, ассамблеях, симпозиумах, встречах, которые ничего не решают для всех забытых по своим провинциям и глубинкам. Для всех крестьян и земледельцев, хлеборобов всех стран: изможденных, с черными узловатыми руками, с лицом, выжженным солнцем или морозом.
На Земле – две независимых и никогда не соприкасающихся между собой цивилизации: злых – и праведных…одна другую презирает: «Колхозники!»
Село на Каме — была истинная, белая, нелживая, чистая глубинная и незапятнанная крестьянская Россия, Дом Пречистой на Земле.
Чем-то эти простецы очень напоминали ему свою любимую деву-дворянку. Но чем, он никак не мог уловить и выразить в словах. А простецы по вечерам, сложив сырые валенки и ватники на печку, тихо беседовали, варили картошку, закусывали скудным хлебом, плакали о погибших и пропавших.
Он смотрел в ночь, в еловые леса, и что же? Там больше не было столичной тьмы: шла над кронами сосен чудная и огромная луна, выявляя в темноте жизни светлый круг села у Камы. Луна сияла и указывала кротким пути в ночи. Улыбалась и ему сквозь заиндевевшие, сказочные окна в цветах и дивных папоротниках. Фонарь сиял через морозные райские листья и цветы – как напоминание всем о небесах, о райской непроклятой природе. А он все смотрел, смотрел на древние иконы. Мученица Елизавета в такие вечера была похожа на его даму сердца – там, там, давно и далеко, всовсем другой стране — как где-то на иной Земле.
А однажды он вдруг услышал, как какая-то девочка далеко, в соседней квартире, но ясно, громко поет простую, незатейливую песню – и похолодел от радости – голос девочки был похож на голос его дамы, пропавшей бесследно:
В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро.
Молча принесет воды.
Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
Так поют только истинно светлые – те, кто только и угоден небесному звездному взгляду.
Он тихо подпевал девочке, луна качалась в саду как дева на качелях. И само время, устрашившись святости, чистоты песни пошло вспять, ошарашивая внешний давно адский и черный мир. Само время остановилось и поглядело в окна дома. Мертвая и косная природа ожила, повинуясь голосам потустороннего мира, подпевала тоже. Впрочем, остальные часы в других домах этого не заметили – чудо бывает не для всех.
Он потом долго смотрел в окно, и неожиданно увидел: идет в сияющих ночных облаках вся белая, одетая в ризу с бриллиантами и жемчугами – истинная царица России, управляющая ее простым народом – блистающая роза, красивее и нежнее которой нет и никогда не станет нигде на Земле. Она улыбнулась ему и промолвила, сияя: «Познавай тишину».
В комнате же все спали, разморенные жарко натопленной печкой, упокоенные луной, снегами, синим блеском полночи и сосулек с крыши, звездной пылью на сугробах, треском сверчка.
Люди улыбались во сне, видели цветные сны, не подозревая причины ярких и радостных стран этой ночи. Кто-то видел себя в цветущем саду, кто-то – еще юным на берегу реки, кто встречался с давно умершими любимыми: все мертвые живы.
И вновь, и вновь наступало утро: топили печь, гремели кастрюлями, вздыхали, уходили на работу, скрипя по деревянной разбитой лестнице в подъезде, слушали радио. Стирали в жестяном корыте белье, а потом его, задеревеневшее на морозе, вносили в дом большими бумажными листами. Исписанными тайнами ветра России – целые огромнейшие тома о истинном прошлом, настоящем и будущем. Чего, увы, никто не может прочесть слепыми глазами привычки.
Словом, шла обычная, безсобытийная жизнь, не интересная ни писателям, ни читателям.
Только старинные напольные часы, привезенные в эвакуацию, все шли и шли, никуда не спеша, не меняя темпа настоящего времени вселенной.
А жизнь вне, где-то там, далеко-далеко на Земле продолжалась: так же живые плясали на костях мертвых. За время неправд, немощи, растления и стонов забытых так же вечерами зазывно сияли окна ресторанов, так же аплодировали какому-то дурачку в театре, хохотали, глядя на его личину, обезобразившую образ человеческий, слушали его плоские каламбуры и тупые шутки, кидали на сцену букеты и ждали у выходов.
А в это время в мороз, во тьмы, в небытие шли и шли, плача от ветра в лицо, лучшие, верный остаток, титаны, держащие на себе города, шумы, крики, газеты, бег толп и столпотворение бирж и кинотеатров. Метель сразу заметала их следы, чуть заметные в белесом мареве ночи, ветра, под темной хвоей лесов.
Метель задувала кресты на ночных кладбищах, путалась в фермах железнодорожных мостов, гудящих в ночи и скрежещущих на морозе – сталь не выдерживала, лопалась с грохотом и гулом надо льдом реки. А люди все шли и шли вперед – по черному льду ночных рек, по кустам и полям, по буеракам и оврагам, сопровождаемые только красными глазами волков и медведей – огибая далеко теплые и уютные огни городов, не входя в них.
Там теперь жила только смерть, погибель, хаос, древние боги крови, чары тьмы, пожирающие собственных детей и младенцев в утробах. Там теперь жило новое язычество – и миллионы его детей и внуков с молниевидной печатью гордыни древних язычников Вавилона во лбу.
Простецы растили детей, но дети их хотели веселой, беззаботной жизни, не работы, а синекуры – ворошить какие-нибудь бумажки, сидеть в тепле. Получать огромные оклады, а не мерзнуть, не трудиться в поте лица своего, не созидать и украшать по заповеди тяжкой работой Землю.
И там, в городах язычников, дети становились такими же мертвецами, рядовыми трупами. Отверженными навеки от звезд, земли, заповеди, пения птиц небесных, тишины неба.
Невозможно не испачкаться тому, кто дружит с добытчиком смолы. Точно так же тот, кто берет пример с ростовщика, сребролюбца, лиходея, живущего в больших роскошных зданиях, непременно и сам станет ростовщиком, менялой, банкиром или мытарем, презренным во всех вратах города. Мерзок и перед людьми, и перед небом тот, кто дает деньги в рост!
Эту смерть называют хорошей жизнью, привыкают к ней, едят с ней — и смерть потом их всех встречает как родных и уводит в закрепы и бессветные железные замки смерти. Звенящие в клубах мрака и вечного холода. Тьма внешняя, куда боится взглядывать и Каин – первый строитель всех городов на земле, придумавший их – города из камня, гордого гранита: « Наказание Твое больше, чем снести можно».
Благо, что земля России не родит камень – как земля долины Геенном. Простецы не сажали на ней виноград – виноград им ниспосылало небо: сидя за бутылкой красного вина, они не пели тех песен, что поет большинство, а, выпив, не перебивали друг друга, не высокоумствовали и не помрачали вселенную словами без смысла. Простецы этого занятия просто не знали: ни школа, ни лживые учебники не оставили в них ничего.
А что же, что же делали все остальные?
Наконец настал покой после бича и воздаяния, голода и мора. В соседних домах воспитывали детей: скандалили, ругались с директором за премию, петушились и пучились, ходили в майках, почесывали пуп, воровали друг у друга на общей кухне кофе, страшный дефицит в забытой земле. Резали друг друга ножами после танцев, избивали во тьме прохожих. А затем с похмелья шли на работу – в серые, пасмурные облака и лужи.
То же происходило и в городах. На темных улицах царила поножовщина, речь убийц и воров. А за дверями квартир за дерматином, спрятавшись от построенной ими жизни, многоученые и суемудрые, лучшие из них, мечтали и тщалися свергать уже со свода небесного звезды и покорить их. Этих многоученых все любили, читали их суетные мечтания, превозносили, тратя на это жизнь. Гордыня и лжеименный разум росли, на улицах царили тьма, ужас и яма. У них была и своя песня. Свой гимн и религия:
На пыльных тропинках далеких планет
Останутся наши следы!
Но смерть писала свои строки – не зависящие от мнения и песен пяти миллиардов.
А вне дома опять царствовал меч, тьмы и мрак. Внутри домов – петля и сны, помрачение смысла и волхование на цифрах и поклонение воинству небесному. Внутри домов царили всюду обман, жадность, коварство, дележ, свара, полная ночь и серные ямы язычества – новая Москвазнала, что в скученности города человек быстрее превращается в послушное мерзкое городское многоглазое и многорукое животное, кормящее миллионами сосцов самых наглых и богатых никем не призванных царей и князей Земли.
И все эти соседи, и все городские, осквернившие себя и землю, умирали: несли их красные гробы под звуки сверкающей меди. На товарищеских панихидах опускали в зубы смерти гроб на веревках, торопливо засыпали все это позорище землей. Ставили железную звезду или гранит — ибежали на поминки: « Да будет ему земля пухом!»
Страшная звезда уже проливала кровь и язву, но не здесь, у простецов в деревне. Оставшиеся в лесах у говорящих звезд, слышали обо всем этом из разговоров от путников, изредка случайно набредавших на село. Крестьяне растерянно слушали все это. Не веря, что такая жизнь вообще может где-то быть.
Простецы не ведали смерти – сама смерть медлила стучаться в их дом, ибо на весах совести еще не исполнилась мера и чаша зла на земле.
Простецы вздыхали: «Что-то зажились мы на этом свете!» Их давно уже не интересовало что происходит на планете, какие еще новшества и какие песни поют сыны адамовы. Они не слышали ни рева стадионов, ни грохота ракет, ни шума псевдомузыки, не знали, что железо и бумага уже опутали весь мир. Старое радио давно сломалось, и в его тарелке паук вил свою паутину. Тишина ходила в доме по скрипучим половицам, осыпалась штукатурка со стен, точильщик грыз черные бревна. Дети детей ковыряли пальцем рваную клеенку на дверях.
И только огороды и садики вокруг все так же цвели яблонями по веснам, полыхали костром астр по осени. Зимами черный старый дом горел розовыми окнами на синем закате.
За рекой, за полосами снега на синем льду, вырос на горах новый хвойный лес. Вечерами иногда небо было похоже на море, на порт с волнорезами и кораблями океана, которых никто никогда здесь не видел. Ночами все так же пел сверчок за печкой, весело трещали и перестукивались дрова в топке. Блекли старые желтые фотографии в рамке за стеклом — и размытые лица поятых смертью больше уже не походили на живых. Телескоп, оставленный на чердаке звездочетом, один смотрел в голубое пламя Плеяд.
В соседних домах пахло валерьянкой и кончиной, под гроб ставили таз с марганцовкой. А здесь воздух был сух, пропитан запахом хвои, мороза. Старый колодец давно обвалился, изоржавела цепь, рухнул ворот – и тот, кто брал из него воду, уже ушел в последний путь свой.
А смерть упрямо обходила этот дом, и никто не знал тому причины.
В городах при сроке оценки душ было вместо благовония зловоние, вместо шелка и театральных роскошных одежд — мешковина и веревка на поясе. Некогда роскошные, завитые волосы превратились в плешь, красота обращалась в клеймо и в ужас смотрящих. Те, кто были некогда мудры в своих глазах, заседали в жюри, советах, измеряли талант и гений земными мерами, проталкивая знакомцев и собутыльников, знакомых знакомых, знакомых жен и деверей – те мудрые превращались в посмешище и в покивание голов: « И эти, эти – они были знаменитыми?»
Их звания, их премии, их тома, их награды – стали дымом печи, трубой крематория. Черный дым рассеивал их страницы и волосы по полям. И сами они, славные, знаменитые, одевавшиеся некогда в меха, сверкавшие золотом, — все они были осуждены вечно вертеться и мелькать, катится перекати-полем под ветром по стеклу и железным игламчахлых растений в мрачной пустыне долины смерти – у всех проклятых на виду.
Живые же, пытаясь найти успокоение от своих городов, обращались в гаданиях к древним богам, к вызывателям умерших и чревовещателям, к шептунам и чародеям. Они смотрели наверх, вычисляли будущее по созвездиям, испытывали там свою судьбу. Но и там, как и на улицах, были горе и мрак, проклятия и стоны падающих вниз умерших, густая, осязаемая тьма. Солнце дымилось и луна бежала, чтобы не смотреть на них.
А простецам в их бревенчатом доме сиял яркий свет, ибо они никогда не были увлечены веком и тем, что в нем.
Те, кто гнался за веселой жизнью: «Я красиво живу!» — те вдруг среди бела дня на тротуаре увидели самую глухую ночь, и упали, и разбились на куски. Потому что всю жизнь только и делали, что слушали тех, кто говорил им лестное, предсказывал доброе и приятное. При жизни они опутывали простецов липкой паутиной слов, отталкивали от себя правых, оправдывали глупых, замалчивали жестокое для себя и своих друзей.
И поэтому их постигло заслуженное: опустошители, которые опустошали народы, и сами были опустошены, и их дети, и их внуки. И все эти роды родов заслуженно умирали внезапно, или же годами гнили в своих постелях, покрывались черными пятнами и червями заживо.
Родственники везли их в клиники за границу, тратили кучу долларов на их излечение, но кто остановит воздаяние?
В двухэтажном же доме со многими окнами покойно в январе цвела герань, чесалась кошка на подоконнике, по улице бродила корова, а на поленнице во дворе прыгали синички.
2
Процветали вдали цивилизации, сама меркантильность ходила по асфальту в белых и серых костюмах, с белыми холеными руками, как у женщин во дворе Людовика. С руками не знавшими ни плуга, ни труда. Шумели шоу и продюсеры, обритые наголо певички, одевшись в мужское, славились между суемудрыми на стогнах и зубцах стен. Шли парады геев, на подиумах что-то крутилось, мельтешило, сверкая черными веками и фиолетовыми колготками гниения и могилы. Миллионоротый Шива орал и свистел на стадионах и ревю, в концертных залах и ангарах. Ракшасы, обритые наголо, безлицые ноли, мясорубки и насосы — с детства привыкшие к взрывам и огню, булькали и дымились отовсюду. Модельные агентства искали новое мясо для толп. Деньги и слава, голубые модельеры, режиссеры, писаки-бестселлеры, попугаи-пародисты махали ручкой фракам и декольте в свете оранжевых софитов.
Души-мотыльки, уверенные в том, что им-то давно забронировано место на небе, метались вверх — и сразу же попадали в металлическую воду тьмы, в сеть, липкую и вездесущую. И в этом мареве вдруг осознавали истинную суть своей жизни.
Принцы разьезжали в посеребренных лимузинах, миллиардеры давали интервью, старели и увядали куклы кинофабрик, выжатые как швабра вожделением и взглядами всемирных колдунов. Зачем-то играл орган в соборе над грудой ужаса в гробу – желтый пергамент трескался на жаре, обнажая черное мясо.
Русские, у кого была хоть какая-то возможность спастись от истребления, весело, подпрыгивая от радости, скакали уже через JFK: «Наконец-то мы, мама, вырвались оттуда, из этого ада!»
Всемирная дама говорила: «В России хватит пятнадцати миллионов населения. Остальные — лишние».
И эти лишние стали умирать заботами все той же Москвы от нищеты, от суррогатов, потому что у них уже не было денег на вино, на хорошую пищу, на лечение и санатории. Обезлюдевшие села становились по словам и указу этой дамы пристанищем сов, соек и мышей. Вся страна была опрокинута в ничто. Впрочем, она уже давно там находилась – русским вымирать было не впервой.
Зачем-то все богатства земли везли на Запад эшелоны и корабли. Новая нерусь, в золотых цепях и тюремных наколках, ставшая депутатами, губернаторами, управляющими заводов, банков, рудников, полей и фабрик, никем не званная – кроме разве властителя всего зла и горя на Земле — сверкала мимо обезлюдевшей страны в лакированных автомобилях. Эти жуткие жабы, не имеющие ни совести, ни чести, пожиратели чужого, всегда не знающие сытости и меры, эти оккупанты обитали в городах за высокими заборами, под охраной от голодного, ограбленного новыми монголами народа. Баскаки оккупантов бродили по квартирам и домам, тоже безжалостные, наглые, как и их хозяева, с пуленепробиваемой кожей, умом и сердцем, забирали в домах бедных пролетариев, у без того ограбленных жителей страны оставшееся. А миллионы по-прежнему создавали своим пустым кошельком их рай на земле, их Багамы, Кипры, Сейшелы, Турции, Египты и Ниццы, их «Абсолют» и рокфор, их дворцы за городом. Эти новые сытые, довольные собой, их охранники насиловали на улице дев и женщин – им хозяева планеты позволили все. Перепившись, баскаки со скуки стреляли друг друга, деля земли и налоги, собранную дань новой Орде – Западу.
Умершие от ига и полного забвения миллионы русских, удмуртов, татар, марийцев, коми вопияли, не найдя себе упокоения: « Доколе, доколе Ты будешь позволять им это иго?»
И тогда Он, сострадая нищим, будучи испокон веков их защитником, уже единственным защитником, позволил открыть жерло и засовы на железных дверях Земли.
Древние силы хаоса и тьмы тут же ринулись в города – и стали терзать богатых и сытых оккупантов, их слуг, их приживал и приживалок, их новых князей – сообщников воров: «Когда безводные духи вернуться назад в свое жилище, и находят его чистым и подметенным, то находят еще семь злейших духов себе на помощь — и бывает последнее горше первого».
Бесноватые новые хозяева жизни смотрели невинно с экранов, их кровавое свиное рыло заполняло весь экран, чавкало и жрало прилюдно красное дымящееся человеческое мясо миллионов жертв. Эти свиные рыла хвалились друг перед другом и перед всем миром на Кипре, в Америке, на виллах в Майами, в Ницце награбленной роскошью и драгоценностями – и хозяин духов радостно над ними потирал руки: «Все – стало теперь мое!»
В Черной Гоби, в том месте, куда владетель миллиардов был некогда свергнут с седьмого неба, где ландшафт поэтому такой же до сих пор, как и на Луне, во всех соседних странах разоренного Эдема, древних обиталищах всех темных сил, бедные и заблудшие южные народы взирали издалека на то, что происходит на Севере в снежной стране – и поражались: « Такая богатая страна – и почему она голодает?»
Но мертвым, как всегда, было не до живых, не до того, что там видят.
Синий Божий ангел смерти, кому служат мудрейшие на Земле, уже со свистом рассекал багровый закат городов Земли, смотря грозно на игралища темных сил.
На крыши небоскребов текла небесная кровь, а в черной тени, в запомоенных мрачных прогалах у ржавых лестниц блудницы, опьяненные сикерой и соком мака, напрасно уже завлекали проезжавших мимо мужчин-женщин в костюмах от Версаче и Гуччи. Подземное солнце ширилось и яро гудело на это. Синие ультрафиолетовые протуберанцы пронзали воду, ветер, камень, бетон, стекло, лифтовые шахты, где боялись пространства миллионы, уверенные в том, что их жизнь — хороша и истинна. Все эти гулкие лестничные марши, эти тоннели мрака, переплетье ржавых труб, сверкающие баки и газгольдеры с ядами и смертью, рукотворные пещеры колоссов создали именно они.
Они вырубали леса, посаженные Ноем, чтобы плодить новые законы и новые горы бумаги, они перекликались друг с другом через океаны мрака, за черные волны. Они плыли как рыбы, летели как птицы. До самых звезд доходило их суесловье — через радиошумы космоса и черных потухших звезд. Вся Земля стонала под ними: косная материя пузырилась и роптала, сверху опороченная живыми, а снизу – стонами миллиардов, о ком не было и не будет памяти.
Известная женщина, непрошено являвшаяся в этот другой мир, надев на шею петлю из электропровода, выбросилась на закате в окно небоскреба с пятидесятого этажа. И оторванное тело ее долго пятнило серый шершавый бетон черной кровью, покуда не упало, хлюпая, к ногам какого-то клерка, думавшего о поставке чилийской меди. Суесловье тут же собралось вокруг, защелкало вспышками, высунуло малиновые языки и — полдня миллионы обсуждали это в новостях. Забыв, что многим из них уже завтра придется проделать тот же путь – в черные тоннели, ведущие не вверх, а вниз, ходящие по планете коричневыми смерчами. Так царствовал город.
Все боги народов, все идеи, все законы, все бренды и знаки моды – идолы, и ни слышать, ни внимать не могут. Но им приносили ежедневные жертвы, из одного куска делали бога и ночной горшок, им сыпали миллиарды долларов в кинозалах и на стадионах, в кафе, офисах, где сидели как мертвецы под ртутным светом новых солнц. Так – заживо привыкали к смерти – бледные, мертвые, вялые, с синими и черными провалами вместо глаз в дырах лиц. Окованные по рукам и ногам заботами, кодексами и обязанностями меркантильной и злой цивилизации – как стальной тонкой проволокой.
Беловоротничковые юрократы несли и несли горы бумаги – многоуровневая цифирь, богатство всемирных финансовых акул, жиреющих на одних только цифрах, бумагах и курсах валют.
Всякий смертный глуп и слеп — глуп хотя бы потому, что они мыслили: «Скоро создадут лекарство от смерти». И на том миллиарды уснули, не слыша громкого смеха разумных галактик и светоносных бездн ночи.
Бег света они объявили окончательной величиной. Но во всякой формуле земных жителей небесные находили грубые ошибки. Ибо ни один рожденный даже не знал источника вод или кладязя света. Живя далеко от голубых и зеленых звезд, не видя всего величия даже твари, они думали в городах, что познали все. И, ужаснувшись своим слепым глазам, глядя только в себя, весь мир почли за пустоту. Потому пустота и поглотила их множество без остатка: так песок без следа пожирает воду.
И смех над ними гулко и далеко разносился по всей вселенной: жалок любой человек, забывший праотцов! Смеялись орбиты, кометы, луны, скалы, льды и пламени, деревья и скоты бессмысленные, покуда все на Земле кичилось и хвалилось круглые сутки.
Каждый наказывается тем, что он больше всего любит. Ибо все земное обманно, временно и фальшиво, и есть только тот мир, где Земля не кругла, а плоская, где небеса разделены на семь небес и восемь, где по воздуху ходят точно так же, как и по воде, по волне морской.
Так – обманул их опыт и ложное зрение.
В реальном же мире происходило удивительное: со звезды на звезду ходили друг к другу в гости, точно так же, как ходят в дверь. Первозданные цветы и травы благоухали и пели человеческими голосами, мертвые вещи рассказывали о забытом и древнем, умершие довременно младенцы руководили народами, неземные симфонии пели не люди, а птицы. И золотая листва тихо играла о безлюдном городе – так что всякий смертный музыкант, услышав то, уже молчал подавленно, в стыде за свою бесталанность и земную кичливость. Места древнего рая воздымались со дна океана – и на них вновь процветал папоротник и гималайская сосна.
И все это было позорищем для всех миллиардов, кто верил и верит только земному знанию: так провалилась вся ложная мудрость и искусства слепых! И это было уже смешно, а не горько – глупые речи дурака всегда вызывают смех во всех окнах и дверях.
А на высотах по прежнему стояли идолы народов – сверкали большими буквами. И даже если на все это нисходило наказание, никто этого не понимал и даже не мыслил о том. Ничтожные не сходили с телеэкранов.
Внутри же гудел черный пламень, пляска черных пламён, радуясь новому топливу – глупым, новым поленьям.
Всякий живой копил горящие угли себе на голову.
3
Дом же в лесу стоял нерушимо и неколебимо. Сама синяя даль вечности укрывала его обитателей, ничего не знавших о мире, живших простой жизнью древней глуши.
Все, кто ни приезжал изредка сюда, удивлялись: « Живете тут как лешие! Отстали от жизни!»
Обитатели же только недоуменно пожимали плечами на это: им непонятен был новый язык, новый телевизор, новое радио, новая речь. Они знали, что сама истина уже смешала языки на Земле – и говорившие на одном языке и наречии уже перестали понимать друг друга. И это тоже защищало дом от скверны мира, ужаса и мрака, несущегося на крестьян из городов.
Где-то шли цунами, землетрясения, вулканы, ураганы, лавины, наводнения, а в лесах все так же стучал дятел, прыгали по хвойным тропам белки. Все так же тихо текла черная лесная речка, все так же, как и в древности, молча росла черника и грузди, все так же медленно бродил клубами белый туман в ельниках осенним мерцающим утром.
Сосны же стояли как храмы, неоскверненные людьми, — и не раз простецы воздевали руки в этих храмах: «Дивно! Чудно! Древне и чисто!» Они благодарили за тишину, покой, свет, радость, праздник света. Ибо лучше тишины нет никакого языка на этом свете.
А терновый куст больше не разговаривал ни с кем из землян. Не слыхать более было и о пророках, святые все давно поумирали. Не происходило нигде больше никаких чудес, никто не возвращался с того света – так жили города…
Но не село. Тут в почерневшем доме ежедневно происходило какое-нибудь чудо. Некая старушка то и дело ночевала в старой пустой церкви. Разговаривала с мертвыми: все считали ее за сумасшедшую. « Божий одуванчик!» Редакторы газет и журналов, люди города до мозга костей, смеялись, разбирая ее каракули – бабка не знала ни синтаксиса, ни орфографии и не умела печатать на машинке. А это всегда настораживает всех слепорожденных.
Таким образом, письма мертвецов не доходили до живущих – пылились в архивах редакций, горели в мусорных ящиках: что может малограмотная старуха?
Связь вечности и времени так была полностью разорвана: гробы по-прежнему катились по отполированным роликам в крематории, так же привинчивали урны в колумбариях, все так же потрошили сизые трупы в моргах – и духи слетались отовсюду питаться этим мерзким благоуханием. Все так же зыбился дорогой гранит и черный мрамор там, где испокон века знали только траву и чернозем.
Все так же никто не знал, копая старую могилу, почему за сто лет черный труп не сгнил – а раздулся, опух. Почему по ночам иногда ходят синие огни, почему сами собой переползают с места на место огромные камни: загадок для полуверующих атеистов всегда слишком много. Поэтому о нонсенсах никто не вспоминал, предпочитали забыть, роясь в бумагах и статейках о суете, о мимолетном.
Зато все верили в 13-ое число, в черную кошку, в значки на ладонях, в кофейную гущу, свои науки и свои знания, в какой-то космический разум.
Разве чудо, что хлеб режется ножом, а вода падет вниз?
Но вот пришли и вокруг села новые времена: вымирали целые села и деревни – от нищеты, от безработицы, от хамства. Непонятные темные новые люди говорили непонятные речи. Непонятные новые чиновники выписывали непонятные новые деньги, на которые ничего нельзя было купить.
Всемирные деисты ругали уже бывший атеизм, но сами были – еретики, дурни, владеющие печатью и словом, не благословленные небом. Но они проповедовали свое дикое и глупое учение всем народам с экранов, со страниц газет – и все народы стали тоже еретики, верующие в тех же идолов на высотах, в те же самые мерзости, которым поклонялись и допотопные кровавые монстры – смытые водой с Земли за свою ложную и бесчеловечную веру.
И поэтому никто, никто уже более не видел и не слышал Бога.
Непонятные книги суетным толпам рассказывали только о толстосумах, убийцах, грабителях, опустошителях, сребролюбцах, угрюмых, проклятых, растлителях, скоробогачах в городах – жиреющих на смерти страны. Весь этот кровавый фарш нового времени блестел с ярких плакатиков на черных гнилых деревянных заборах, щелкал на ветру. Чиновники опять обещали сытую жизнь.
Но сами они никогдане появлялись здесь – они пришли бы в ужас, повесились, если бы вдруг стали жить бедно, как и все, вот в этом доме. Непонятные песни гремели в клубе. Но что было крестьянам до этого?
Крестьяне уже давно прожили жизнь и обитали только в молчаливой вечности.
Потом ветер мира нес по грязи и лужам портреты чиновников, олигархов, их депутатов, всех растлителей народов, окуная их в жирную грязь забвения – туда, где им обеспечено вакантное место.
А на столах простецов все так же парила картошка, зеленел лук и блистала редиска с грядки. В солонке лежала та же крупнозернистая соль. Старый чугунный чайник, не боящийся времени, свидетель иной святой России, пыхтел как хозяин, весело подмигивая обитателям дома, болтая с ними о том, о сем.
Истинная Россия вокруг полностью отмирала, окончательно отходила в океан прошлого, прощально гудя колоколом. Дамы и господа махали шапочками, котелками, пуховыми платками. Труба дымила черным углем, туман и море времени скрывали все больше и больше леера и мачты – яркий рассвет слепил оставшихся на берегу: корабль России уходил прямо в солнце.
А на местах когда-то многолюдных сел цвел Иван-чай, ромашка покрывала сгнившие срубы.
Журавль у колодца еще держался, одиноко скрипел на ветру, скорбя о лучших людях.
Старые сосны давно были спилены на дрова, белоколонная усадьба князя — разобрана на стены безлюдной фабрики, некому уже было работать на ней, все умерли. Кости владельцев поместий и их слуг давно гнили в земле – или стали основанием для многоэтажек в городе.
И никто не подозревал в этих многоэтажках, отчего всегда в их квартирах витает беда, несчастье, ночные ужасы и проклятие – к которому привыкли. Проклятые дети проклятых дедов учились, получали хорошее образование, занимали высокие места – и вся страна не знала, почему любое дело и начинание всегда заканчивается позором и разорением, ужасом для потомков. Никто уже не мог разобраться во всем этом, хотя заседания и собрания, прокорм все более наглеющих чиновников, стоили страшных денег.
Искали спасения и смысла, спорили, воевали друг с другом, писали эвересты новых документов и бумаг — и не обретали ни начала, ни конца.
И чем больше они в городах совещались, писали, шумели, законотворчествовали и трудились напоказ – тем больше истощалась страна, стонала от них вся земля.
4
Умирали рыбы и птицы, весна стала похожа на зиму, а лето на осень. Час бежал как минута, год как месяц, и никто из них не знал, почему спешит время. Но все проклятые не понимали, почему они никогда ничего не успевают: при множестве дел и забот не оберешься греха. Все трудящиеся синекуры напрасно трудятся.
Тех же, кто говорил им об этом, сбрасывали на дно города. Так город пожирал собственных детей.
Номерные могилы заполоняли поля. Цифры, указанные на них, были просто цифры – одинаковые черные жучки логарифмическими рядами в больших черных томах смерти, на базальтовых полках в архивах загробного мира.
Тяжелая книга летела над миром ночами: всякий, кто пытался ее прочесть, тут же сходил с ума, умирал от страха, тоски и ужаса – Знание.
А вверху парил безлюдный город, внизу горел кострами муравейник, собирая многочисленные головы, руки и внутренности на перекрестках шоссе. Черная птица с когтистой секирой стояла над светофорами городов. Ловя души сетью, складывая их в черный мешок.
Псы с красными ртами и человеческим телом также ловили спешащих жучков на всех выходах и входах.
Вся Земля есть кладбище. Нет ни одного свободного места от костей. И всякий пляс и веселье стали плясом и весельем на костях – тем более в этой стране, где людей держат за скотов, за горшки для помоев и плевков.
Поэтому этому всему суждено выгореть вглубь на много метров: но кто думал об этом?
Упорно железные псы созидали города до неба, грызли камень железными зубами.
Все человеческие труды, годы, заповеди, привычки, имена, стремления, надежды – безумие и смех даже детей. Любому человеку мало и всей земли: всех ее богатств, роскоши, кладовых. Поэтому крестьяне не тянули свои руки ни к чему: все равно не насытишься.
Обо всем этом пытались писать и говорить во всеуслышанье, но никто даже в одном государстве уже не понимал друг друга. Слишком много стало слов, путей, знаков, свобод, рвений, цифр, газет и истин. И всякий стоял потерянный, опустивший руки: горе веку и всем живущим в нем!
Именитое, новое, роскошное – ничто уже не радовало пресытившийся взор, а звезды были так же далеки и холодны. Яблоки и груши в супермаркете радовали только глаз – а внутри были таковы же, как и люди: безвкусные, пустые, поддельные, ненастоящие, ватные, как бумага – только выбросить, морщась.
Большие деньги уже никого не радовали: радость вовсе никому не была уже знакома. Она уходила от Земли как пар воды ночью. О радости уже даже никто и говорил, никто ее не искал, никто о ней не писал. Радость и покой – есть счастье, не доступное в городе. Поэтому вкус, осязание, цвет, звуки – все стало всем мерзким, хуже выгребной ямы, помоев – как рот сварливой жены. Современной женщины города.
Все всем опротивело — и это стало самой явной приметой конца.
Опротивела любовь: можно ли сразу любить трех женщин или трех мужчин? Опротивело обычное, легкодоступное, называемое счастливым мгновеньем – всего лишь мгновеньем. Опротивели модные бренды: автомобили, квартиры, дома, блузки, курорты, вина, сигареты…
Хорошо быть в такие времена тому, кто вычеркнут из города, из жизни, забыт и забвен всеми далеко на берегу, смотря, как волны моря перемешивают тину, обломки, прах, трупы, пену, морских чудовищ.
Так и дом, стоявший в лесах, светил всему миру ночами как маяк. Но кому тут было светить: пути народов пролегали далеко. Поэтому крестьяне и молчали о том, что знали. Истинные знания закрыты для вульгарного всечеловеческого христианства – есть громкое и шумящее ложное человеколюбие, гуманизм — благие намерения по пути в вечный огонь. Немного дает радости и все знание, если оно всякого обрекает на полное одиночество.
Поэтому все, кто знал, бежали в пустыни, леса, в горные щели и снега в ужасе — и всеобщее наказание там миновало их. Так закрыто было небо.
Нижний же, задавленный обязанностями мир в паутине вещей всем одинаково омерзел, вызывал рвоту, эпилепсию и буйное беснование от голоногих телеящериц, выползающих по вечерам во всякий дом.
Бесновались мужья, видя беснующихся современных жен – всякая требовала: « Отдай мне причитающееся!»
Юристы, оправдывающие виновных и заболтавшие народы, были все сообщники ненасытных стяжателей, официальных убийц, помощники притеснителей голодных — процветающих дневных воров, белых воротничков. Князья же и правители были ничем не лучше диких горных дьяволов – но каждый чувствовал себя богом на Земле: « Несите мне дары и яства!»
Треть жизни они потратили на бесполезную работу, которая никому была не нужна, треть – на сон, а оставшуюся треть, жалкую шагреневую кожу – на телевизор, сплетни, развлечения, моды, шоу и на поездки на моря и океаны, на лежание в шезлонге. И после них грядущему не осталось ничего: ни полей, ни свежих лесов, ни чистых рек и озер – все это они высосали, сьели и выпили.
И так как все стали свободными, богами, никто никому не подчинялся, никто никого не слушал и не слышал. Земля же терпела все это только для того, чтобы однажды, в одну секунду, перевернуться как пласт на болоте – и поглотить жужжащую гордыню насекомых ничтожеств.
Крестьяне же выращивали в тяжком труде хлеб свой. Но осенью приезжали из города лихоимцы и любостяжатели на «Вольво» — забирали все их труды за бесценок. А потом продавали им же их хлеб втридесятеро. И притом же эти богатеи еще и жаловались: « Мы не смогли обобрать этих дурней до копейки! Еще осталось у них».
Всемирные лихоимцы богатели, расширялись по всей планете – никуда не было деться отармии их соглядатаев и шпионов. От их паутины, от их многоячеистого словоблудия с экранов, от страниц всех тех, кто помогает лихоимцам в офисах — работая намедленное уничтожение тех, кто их кормит и поит.
Они же, эти пожиратели, жили без бед и несчастий, долго и сыто – и считали притом это благоволением неба. А простецов называли презрительно: «Скот! Вонючие навозники!» И весь народ вокруг них был для них – быдло.
Все народы, работавшие на них и умиравшие на работе, шли к этим капиталистам, к финансовым олигархам и воротилам, правителям Земли, наобещавшим им райскую жизнь, и требовали: « Дайте же нам теперь, сейчас много мяса, шоколада, тортов, крабов, конфет, коньяков, мармеладных зайцев, которые вы едите, мы видели по телевизору».
А те отвечали им: «У нас ничего нет. Мы сами стали бедные. Видите ведь: Земля не дает больше хлеба, а небо дождя. Все реки и озера высохли, и мы больше ничего не можем дать вам».
Они с почерневшими лицами уныло побрели все вон. Бросали на дорогу деньги, золото, драгоценности, дорогие одежды: «Кто даст нам воды? Простой воды! Мы бежали, думали, что это лужа – а там опять проклятое золото!»
Привыкшие с детства много есть и пить, они пили кровь трупов и пожирали их вонючее мясо: «Надо ведь что-то есть! Иначе ведь мы умрем». Черная язва покрывала их тела, они гнили заживо: воздаяние и справедливость наконец, явно и видимо всем, посетили Землю. Кто что заработал – тот то теперь и получал, не как в старые времена.
Все дороги и распутья воссмердели от мертвецов. Голодные прожорливые ротвейлеры и пинчеры умерших, одичав, пожирали мясо своих хозяев.
В городах, в подьездах, по обглоданным черным черепам шуршали крысы, все стенало и плакало, и никто больше не осмеливался показывать на улице свою наготу.
Оставшиеся живые рвали волосы: « О, проклятое земное знание, куда ты нас завело?»
Увидев крестьян, осиянных светом, вдали, они с черными лицами застонали: «Это – крестьяне. Наши враги. Те самые, кого мы презирали и над кем смеялись! При жизни много же зла мы им сделали! О горе, вечное горе нам!».
А светящиеся люди уходили от них все выше и выше, покуда не скрылись в нестерпимом свете, который жег глаза злым, лукавым, злопамятным, скандальным, притеснителям убогих.
Так – кончалось время. Наступала восьмая эпоха.
Блуждающие звезды великих городов свергались с дымом и шумом. Даже святые, видя это, страшились и дрожали: они и не знали, какова мощь и сила справедливости и истины. Видя издали это падение, они говорили: «Некому больше нас будет грабить и обирать. Мы кормили и одевали их, никогда не зная от них благодарности. Они всегда издевались, грабили нас, обманывая, и превозносились над нами. Считали нас за пыль, за ничто. Благодарим Тебя, что Ты спас нас от их царя и укрыл в этой забытой всеми деревне, в глуши. В сих лесах по Своей милости, а не по нашим заслугам».
Дым же от мучения злых поднимался во веки веков.
А время этого мира уходило все дальше и дальше.
Мелькнула и обратилась вновь в камень пирамида Хеопса. Затем колонны Стоунхенджа воздали славу небу, как и в древности – и вернулись на свое место в горах. Исчезли следы тигра и волка, некого более было страшиться – все вернулось к древнему молчанию.
И вновь пар поднимался к облакам по лицу всей Земли – не нужно было больше ни дождей, ни зноя. Вновь чистая, безлюдная Земля приносила простецам урожай сам-триста: из одного посеянного зерна вырастал целый центнер. Деревья плодоносили и цвели каждый месяц. Тучные пастбища бывших пустынь дали сень и приют новым людям – потомкам простецов. И никто из них больше уже не вспоминал ни о лесоповале, ни о нищете, ни о лихоимцах на «Вольво».
Выходя из леса на место некогда славных городов, они находили там в свежей хвое большие белые грибы и огромную землянику. Кедр и кипарис, сосна и полярная ива цвели вместе, ива цвели вместе, тропические индийские и русские птицы слетелись петь рядом. Не выходил из леса более вепрь или волк. И за отсутствием воров, лукавцев, прожигателей чужого – не нужны стали ни замки, ни паспорта, ни деньги, ни доверенности, ни бумаги, ни знакомства. Не нужно было больше трудиться на мироедов, на тысячи, попиравших убогих и кротких. Никого не нужно было бояться, никто более не мошенничал, не обманывал доверявших ближнему – ни на улицах, ни в домах: всех до единого служащих смерти и погибели забрала навеки тьма и смерть. Ни одного из них не стало на всей Земле.
Вновь великая тишина лесов царила по всей России. Железные дороги и шоссе зарастали травой, огромными, невиданными деревьями, называемые секвойя и тис. В реках чрезвычайно умножилась рыба — и такая, какую отродясь здесь не видели. Ночь стала светла как день, а день не убивал более яростью солнца, обжигающего глаза. Обезлюдевшая Земля вся нежилась и отдыхала от зла, от нечестивых и наглых, от бетона и железа, от бумаги и проводов, от криков сребролюбцев о деньгах и товарах, от хитрых глазенок на рынках и перекрестках.
Так окончились времена и наступили времена времен.
Не наступило никакое будущее, о котором так громко некогда мечтали нечестивые. Но настало то, о чем никто и не мыслил. И не подозревал.
По ночам большие далекие галактики ниспускались с неба посмотреть на новую дивную планету и на ее простецов. Яркий радужный свет нового неба играл в лесах, в чистых, прозрачных реках и озерах. И каждый мог сказать: « Хорошо весьма!»
А что же он?
Теперь — он стоит в сельской музыкальной школе.
Просто – старый белый рояль. Просто старый белый рояль.
© Copyright: Роман Эссс
Вам могут быть интересны похожие материалы



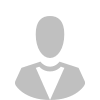

Вопросы и комментарии 0